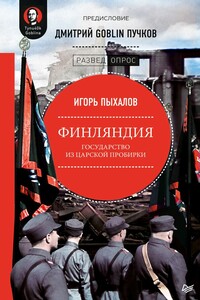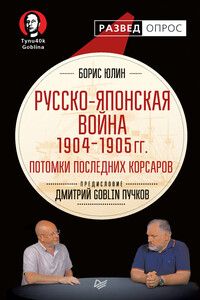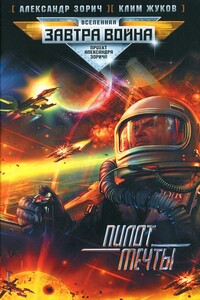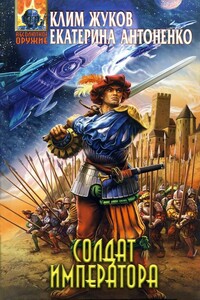Средневековая Русь | страница 53
За подтверждением этой версии событий обратимся к серьезной науке археологии. И такое подтверждение имеется – слои пожара в Старой Ладоге, практически уничтожившие старый город. Вполне возможно, что это следы той самой усобицы и изгнания варягов. Видимо, действительно серьезно поссорились славяне со скандинавами (положим, это были шведы). А потом, отлично понимая, что мало того, что сами с собой договориться не в состоянии, так еще и шведы могут обратно заявиться, причем уже не вполне мирно, – решили: нужно пригласить кого-то достаточно авторитетного, чтобы мог и конфликт прекратить, и прикрыть от благодарных, так сказать, бывших коллег, которые обязательно придут мстить. Нужно отметить, что обычай кровной мести скандинавы соблюдали очень строго.
Вот так излагает данные события наш самый древний летописный источник. Впоследствии «Повесть временных лет» издавалась еще несколько раз в разных редакциях. Одна из них – Ипатьевская летопись, которая писалась около 1420-х годов во Пскове с неизвестного протографа (видимо, южнорусского происхождения). Еще одна редакция – это знаменитая Радзивилловская летопись конца XV века, которая имеет несколько списков, то есть Летописец Переславля Суздальского и хранящийся в Москве академический список Радзивилловской летописи, которая содержит в том числе и «Повесть временных лет». Более-менее внятную картину описанных в них событий можно составить, только сравнив все эти тексты между собой, потому что все редакции имеют отличия, и даже их списки далеко не всегда совпадают.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и объяснить, чем отличаются друг от друга извод, редакция и список. Извод – это самостоятельное произведение. Редакция – это очень глубоко переработанная версия самостоятельного произведения. Список – это примерная копия. Примерная она потому, что, как мы помним, все книги переписывались от руки, и при всем желании писца точной копии не могло получиться. Ошибки и описки – неизменные спутники такого способа размножения информации. К тому же нельзя исключать и того, что каждый монах мог являться творческой личностью, пробуя при случае добавить что-нибудь от себя. Впрочем, внесение в текст отсебятины порой диктовалось не творческим порывом безвестного переписчика, а самой что ни на есть суровой необходимостью.
Предположим, что монах переписывает некую книгу с третьей по счету копии. На каком-то этапе, еще до того как книга попала к нему в руки, в текст вкралась ошибка, мешающая понять смысл написанного. Писец вынужденно додумывает нечто приближенное по смыслу – и ставит новое слово взамен непонятного, а в результате получается фраза, которая может совершенно не совпадать с той, что была в оригинале. Писцу простительно, ведь он в глаза не видел этого оригинала.