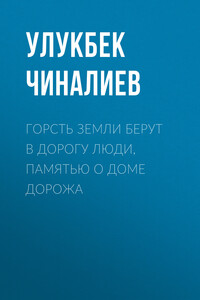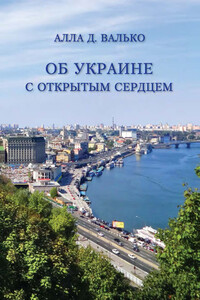Переписка Стефана Цвейга с издательством «Время» 1925-1934 | страница 3
Момент оказался удачным: первый русский тираж уже почти забытого в Германии раннего сборника Цвейга, название которого издатели умело оживили, вынеся вперед заголовок одной из новелл («Жгучая тайна»), разошелся и на 1926 г. был запланирован выпуск второго тиража. Читатель требовал любовной интриги [12] и новеллы Цвейга этому запросу вполне отвечали. Заключение прямого договора с автором давало преимущество, поскольку в этом случае можно было получать тексты до их публикации в Германии и тем самым хоть как-то защитить себя от конкурентов, которых у издательства «Время» было немало — главные из них «Мысль», «Прибой» и Государственное издательство, не говоря уже о прибалтийских и немецких издательствах, печатавших переводную литературу на русском языке. Ситуация, когда одновременно в трех издательствах выходил один и тот же перевод, была рядовой [13], и рассчитывать на уступчивость конкурентов или «верность» переводчиков, которые кочевали из издательства в издательство, не приходилось. Существовала и опасность того, что кто-то из конкурентов сам, напрямую свяжется с автором, и получит авторизацию — выпуск авторизованных изданий, практиковавшийся в дореволюционной России, продолжался в небольшом объеме и после революции до самого конца 1930-х гг., причем речь шла отнюдь не только о «своих», карманных писателях, выступавших в роли идеологических союзников, и авторизацию получали не только частные издательства, но и государственные. Кроме того, именно в 1925-1926 гг. было предпринято несколько попыток со стороны европейских государств побудить советское правительство присоединиться к Бернской конвенции, и в Москве, принципиально отвергнувшей эти предложения, обсуждались возможности заключения сепаратных литературных конвенций с отдельными странами, в частности с Италией и Германией [14]. Слухи об этом курсировали в издательской среде и получение авторизации в этом контексте могло быть очень своевременным, хотя она и не спасала от главной опасности — от возможной монополизации как права на перевод, так и самого перевода со стороны государства, поскольку это право было закреплено в советском законе об авторском праве во всех редакциях 1920-х гг. (1925, 1926, 1928) — поучительный пример с национализацией всех переводов на русский язык произведений Эптона Синклера (1878-1968) был всем хорошо известен [15]. С учетом этого сосредотачиваться на каком-либо одном авторе, излишне привлекая к нему внимание, для всякого коммерческого издательства, несмотря на возможную финансовую выгоду, было рискованно.