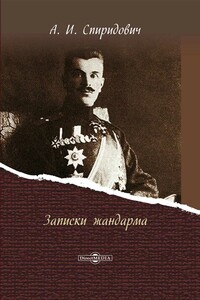Воспоминания | страница 87
хорошо они узнавали здесь только одно — нужду. Тяжелый, упорный труд, порой унижения — всего этого здесь было в избытке. И все же они всегда умели сохранить хорошее настроение. Их дети могли получить образование и какие-то права, но для них самих жизнь оставалась непрерывным самопожертвованием. Я был горд и счастлив видеться с ними. Я понимал, что они олицетворяют лучшие черты итальянского народа: выдержанность, терпение, трудолюбие, мягкость души и доброту сердца.
Однажды в июне я был в своей уборной в театре «Колон», как вдруг за несколько минут до выхода на сцену (я пел Энцо в «Джоконде») мне доставили срочное известие из Италии: Костанца родила сына! Партию Энцо я пел на дебюте в Ровиго, имя Энцо было связано у меня с самыми светлыми воспоминаниями, и я телеграфировал Костанце, чтобы она назвала сына именем моего героя. Рина и Энцо — моя маленькая семья была теперь в полном составе.
С труппой Вальтера Мокки мы все время были на ножах. Но публика и критика Буэнос-Айреса несмотря на это по-прежнему встречала меня благосклонно. После «Тоски» и «Джоконды», «Богемы» и «Мефистофеля» я спел в конце сезона, в сентябре 1919 года, новую партию — партию Дженнаро в «Лукреции Борджиа» Доницетти.
«Лукреция Борджиа» — одна из самых незначительных опер Доницетти. Написана она в 1833 году и представляет собой типичное посредственное произведение, характерное для периода расцвета бельканто. Либретто оперы написано кое-как, оркестровка банальная, и ясно, что Доницетти больше всего рассчитывал на певцов, которые вдохнут жизнь в его произведение. В опере есть, однако, великолепная ария для тенора — «О безвестном рыбаке...».
Один непредвиденный случай во время премьеры «Лукреции Борджиа» внес комическую ноту и разрядил несколько мрачную атмосферу длинной цепи отравлений и других преступлений, которые составляют сюжет оперы. В IV акте Дженнаро умирает от яда, преподнесенного герцогиней, но напряжение усиливается еще больше, когда она вдруг признает в нем своего сына. Она обнимает его голову и начинает безутешно рыдать: «Сын! Сын мой!». Эстер Маццолени, сопрано, которая пела партию Лукреции, схватила мою голову так страстно, что сорвала с меня парик. Она растерялась и с париком в руках начала медленно отступать к кулисам, продолжая в то же время упорно петь «Сын! Сын мой!». Публика умирала от смеха.
Сезон в театре «Колон» кончился в этом году торжественным представлением «Тоски». На спектакле присутствовали президент Аргентинской республики, члены правительства, дипломатический корпус и сливки светского общества Буэнос-Айреса. Когда я спел арию «Сияли звезды...», публика ответила невероятной овацией и стала настаивать, чтобы я спел ее вторично. В театре «Колон» были свои суровые законы относительно бисов, и я старался не нарушать их. Но волнение в зале нисколько не утихало, и тогда, чтобы не задерживать спектакль, я решил уступить просьбам публики. Я полагал, естественно, что импресарио потом поздравит меня или, по крайней мере, скажет, что доволен успехом. Однако вышло наоборот: к моему величайшему изумлению, он был вне себя от гнева. Так же, как много лет назад Розина Сторкьо, Бонетти обвинил меня в том, что я подкупил клаку. Слушать это было до того обидно, что я в свою очередь вышел из себя, и моему брату Эджидио стоило немалого труда удержать меня, чтобы я не разбил стул о голову моего импресарио.