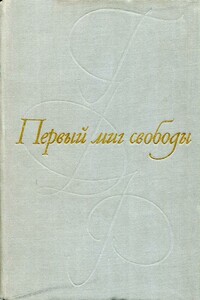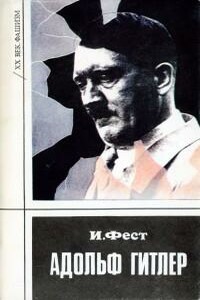Москва – Берлин: история по памяти | страница 70
На партсобраниях каждый не просто мог, а обязан был публично указать на все темные пятна, которые имелись в прошлом или настоящем товарищей по партии. Но политическими обвинениями люди не ограничивались. Частная жизнь товарищей тоже подробно освещалась. Каждый был свидетелем, обвиняемым и обвинителем в одном лице. Выступая против товарища X., докладчик прекрасно знал, что вскоре его самого могут пригвоздить к позорному столбу, а потому вовсе не думал проявлять храбрость и стойкость — напротив, ради спасения собственной шкуры он пытался доказать судьям, что у него достаточно «пролетарской бдительности», и изо всех сил старался измыслить против товарища X. столько подозрений, сколько возможно. Судейская коллегия состояла из партийных товарищей, которые «чистку» уже прошли. Выслушав все стороны — эту мутную смесь критики и самокритики, — они удалялись на совещание, где обсуждали, может ли член партии, чье дело только что рассматривали, получить назад свой партбилет (ведь это становилось своего рода честью — остаться в рядах партии), нужно ли ему вынести «выговор», «строгий выговор» или «выговор с последним предупреждением», а то и вовсе исключить несчастного из компартии. Все это разбирательство было более чем серьезно, так как каждый знал, что исключение из партии вполне может повлечь за собой немедленный арест. Удивительно, но до нас «чистка» не добралась. Партбилетов у нас и так не было, ведь мы приехали из подполья. Но ни разу нас не вызвали ни на какое собрание, подобное описанному, — разве что Хайнца часто тягали в Интернациональную контрольную комиссию. Но, возможно, мы для партии просто больше не существовали, и номер в «Люксе» был могилой, в которой нас оставили тихо догнивать.
Вдобавок ко всему прочему, едва мы вернулись из Евпатории, как нам привезли огромную рукопись для перевода из издательства «Иностранный рабочий». Это был протокол большого процесса против Зиновьева, Каменева и ряда других обвиняемых, который имел место в августе 1936 года, — первый из больших московских показательных процессов. Работа над переводом осталась для меня одним из самых тошнотворных воспоминаний того года. Только что начало гражданской войны в Испании почти заставило нас забыть о том, что творилось в Советском Союзе. И вот, читая протокол, мы вновь сталкивались с тем, что вызывало у нас отвращение и страх. А затем произошло событие, имевшее решающее значение.
Одним августовским утром я заваривала чай на общей кухне нашего гостиничного этажа, когда соседка шепнула мне, что этой ночью арестовали Генриха Зюскинда. Бывшего редактора берлинского «Красного знамени» Зюскинда исключили из партии как «примиренца». Он жил через две комнаты от нас, на том же этаже в отеле «Люкс». Между нами, опальными, и им, изгоем, завязалась за минувший год тесная дружба. Еще вчера мы сидели вместе, в ушах еще звучало его вежливое «Спокойной ночи!», которое он произнес на прощание. Удивительное человеческое свойство: мы по-настоящему чувствуем опасность лишь тогда, когда беда настигнет близкого друга. Ведь как переводчики мы только что прожили весь показательный процесс над Зиновьевым и Каменевым и каждый день слышали о новых и новых арестах! Конечно, от мысли обо всех этих кошмарах мурашки бежали по коже, но страх оставался безличным — это был абстрактный страх, который сковывал меня и выводил из равновесия, но который я, тем не менее, не могла полностью отнести к себе и к своей жизни. И только слова соседки: «Генриха Зюскинда арестовали!» — с пугающей внезапностью превратили страх в реальность.