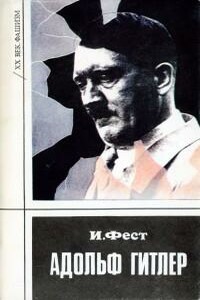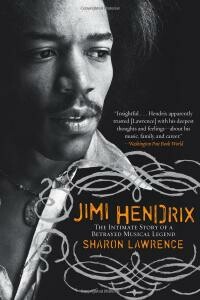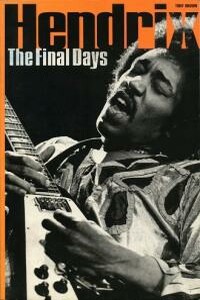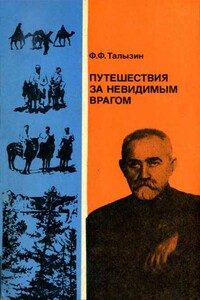Москва – Берлин: история по памяти | страница 17
Кое-кого из наших мест отправили в Дахау. Об этом перешептывались, но наверняка, конечно, ничего не было известно. Что времена изменились, мы поняли, когда в городе арестовали священника. Нищие исчезли, крестьян с большими долгами больше не заставляли все распродавать, если они поддержали новую власть.
Некоторые возвращались из Дахау, но ничего не рассказывали. У Альберта в Нойёттинге жил брат, тремя годами его старше, он был социал-демократом, и в марте 1933-го его заключили в Дахау. Через полгода его отпустили, поэтому я смогла об этом узнать.
Первое мая теперь был праздничным днем. Дядя не пустил меня в поле окапывать картошку, потому что работать запрещалось, и некоторых крестьян штрафовали за то, что те работали. Так что я могла ехать в город смотреть демонстрацию. Музыка мне всегда очень нравилась. Люди в форме маршировали по городу, и, когда зазвучали «Песнь немцев» и «Хорст Вессель»[7], все должны были вскинуть руку, но я этого не сделала. Ко мне подошел мужчина и попросил поднять руку, но я его уверила, что у меня очень болит рука. Тут уж он ничего не смог мне сделать. Я видела, какую важность напускали на себя некоторые из тех, кого я знала в обычной жизни, и мне становилось смешно. Никакого страха перед этими людьми я не испытывала — совершенно спокойно с ними говорила, не обращая внимания на мундиры. Они тоже понимали, что я самая обыкновенная девушка, и переставали корчить из себя невесть кого.
Когда Альберт ушел на войну, я пошла в военный комиссариат в городе и попросила отпустить его в отпуск для уборки урожая. Там я встретила нашего соседа, который служил майором. Он сделал запрос, и муж смог приехать.
Во всех домах теперь висели портреты Гитлера, а некоторые еще и убрали из угла распятие — мы же ничего такого не делали. Позже мы не вывесили из окон белые тряпки, когда мимо нас проезжали американские танки. За столом все вместе мы произносили молитву, что делаем до сих пор, для этого нам портрет фюрера не нужен.
У ветеринара, который лечил животных во всей округе, жена была еврейкой, и муж стал для нее спасением. В нашем городе был еврейский коммерсант — уже тогда он начал продавать что-то в нагрузку. Дело у него отобрали, что с ним сталось дальше, я не знаю. У нового хозяина торговля не задалась, потому что чужое добро впрок не идет. Его уже давно нет в живых, и его имя забылось. В то время творилось много несправедливостей.
Некоторых мужчин с желтоватым цветом лица стерилизовали, как говорили, во избежание наследственных болезней. Большую славу у нас приобрел молочный контролер, который должен был у всех крестьян измерять надой молока. Крестьяне стали называть его молочным волом, потому что вол — это кастрированный бык, и так оно и повелось. Впрочем, этот контролер не вполне еще потерял свои мужские способности и сошелся с моей служанкой Пепи с вывороченными ногами — вот уж каждый сверчок найдет свой шесток.