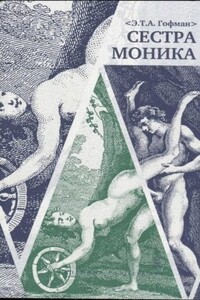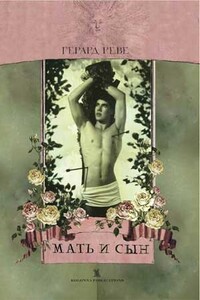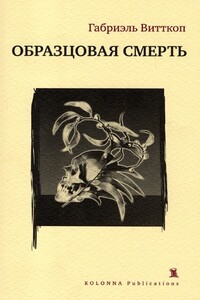Каждый день - падающее дерево | страница 7
Я встречала другого гермафродита, хотя он тоже, возможно, лишь притворялся. На углу между мясной лавкой и улицей Монтань-Сент-Женевьев обитало одноногое существо в желтом парике, которое приставало к прохожим, стоя на своем протезе, одетое в одно из тех креповых платьев, что создавала устаревшая высокая мода; с губами, словно окрашенными бетелем, глазами, подведенными углем, сплошь увешанное кроличьим мехом и гагатами, — потусторонний человек, эфеб клоак, стучавший своей деревянной ногой по закругленным, скользким камням мостовой. Говорили, что он являлся из одного гаврского борделя для видавших виды моряков. Иногда я видела, как серо-бежевые непромокаемые плащи, отверженные «шашечки» и падшие «клетки» плелись за ним по тротуару к сверкающим вывескам дома свиданий. Воздух был насыщен смрадом картофеля фри, слышались звуки ссор и радио. Вблизи и вдалеке вздыхала Сена.
Моргая глазами за дымчатыми стеклами очков, она следит за полетом грифа — птицы, полной глубинных отзвуков. Ипполита любит эту далекую птицу, чьи перья обтрепывают небесную синь, как любит целомудрие, неприступность. Она любила, например, бумажного змея — большого, хоть и разорванного золотого дракона, которого однажды в детстве у нее тихонько отнял ветер. Внезапно веревка выскользнула из пальцев, а змей повис высоко в сиреневом небе, где не летала ни одна птица, над сиреневым морем, где не шло ни одно судно; даже не убегая, но оставаясь неприкосновенным, уйдя безвозвратно, навсегда, но все еще присутствуя — неподвижный, желтый и роскошный. Бегая по гальке и тихо плача, Ипполита любила бумажного змея за то, что потеряла его, любила как умершего друга.
Неподвижная, желтая и роскошная, длинная шафрановая хризалида, встреченная на Эм-Ай-Роуд, — покойник, незнакомец, которого несли, словно умершего царя, золотое дерево смерти; несли к кострам, куда слетаются грифы. Как лежащие деревья, как сплавной атжехский лес когда-то на Суматре, я помню… Драгоценная древесина спускалась по реке. Большие серебристые стеркулиевые[16], любимые хищными птицами, драцены и все еще окровавленные розовые деревья плыли к устьям, где они потом составляли материки, подвижные архипелаги, плоты, толкаемые, словно драпировки, черными силуэтами людей; они чертили на реке Алас линии длинными водяными перьями, до самого горизонта, который внезапно загораживали кроны их собратьев; они двигались по течению, лежа, словно мертвые цари, будто этот покойник в золотистой одежде, за чьей процессией я так и не пошла. Я помню. Если только не забыла, ведь существует целый могильник моих старых мозговых клеток, моих фотографических клеток, всего, что я могла удалить, избавившись от того, что меня стесняет, даже если мучительные воспоминания вовсе не обязательно должны стеснять. Но воспоминание всегда вызывает беспокойство, страх потеряться, теряя то, что я хочу сберечь, — даже если бы смогла, как спелеолог, нырнуть в полость собственного горла, спуститься взглядом и душой в трепещущую, волнистую, извилистую, ребристую плоть пищевода, до самой черноты, в глубь своего нутра.