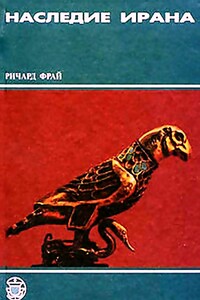Очерки истории культуры Средневекового Ирана | страница 10
Видимо, этим можно объяснить то, что некоторые ранние памятники литературы в связи с потерей к ним социально-общественного интереса дошли до нас только в очень старых списках. Те же из них, что попали в неблагоприятные условия, не сохранились, и мы знаем о них только из более поздних источников. Таким образом, потеря социального интереса к ним прервала традицию воспроизводства списков, и наоборот. Нас не удивляет большое количество сохранившихся рукописей религиозно-богословского содержания. Конечно, хотелось бы, чтобы сохранились все восемь поэм и Диван Абу Абдаллаха Джа'фара Рудаки (ум. 941) или три поэмы Абу-л-Касима Хасана Унсури (ум. 1039). Но человек средневековья руководствовался несколько иными ценностями в своем отношении к миру, чем мы. "Богословие представляло собой "наивысшее обобщение" социальной практики человека средневековья, оно давала общезначимую знаковую систему, в терминах которой члены феодального общества осознавали себя и свой мир и находили его обоснование и объяснение" [58, с. 12]. Почему, например, до нас дошло почти полторы сотни экземпляров Тарджума-йа Тарих-и Табари ("Перевод "Истории" Табари") и только один список знаменитого Худуд ал-алам ("Границы мира")? Ведь оба сочинения были составлены в X в. Старейший список[21] "Перевода" выполнен в 585/1190 г., а переписка Худуд завершена в 656/1258 г. Чем объяснить, что до нас дошло сочинение XIII в. Джахан-наме ("Книга о вселенной") в четырех копиях XIII, XV и XVIII вв.[22], а труд по всеобщей истории XI в. с уникальным разделом о тюркских народах Зайн ал-ахбар ("Украшение известий") Гардизи — в двух списках XVII и XVIII вв.?
Еще один пример, который вызывает интерес в связи с фиксацией народной литературы в письменном виде.
Народные романы (дастан), возникнув на городской почве на рубеже XI-XII вв. как устное произведение, изустно же распространялись и пересказывались в течение веков профессиональными сказителями. Популярность их была достаточно широка[23]]. Но вот что интересно. Одно такое произведение, Китаб-и Самак-и Аййар ("Книга Самак-и Аййара"), записанное, видимо, в 585/1189 г. профессиональным секретарем-писцом Фарамурзом б. Худададом б. Абдаллахом ал-катибом Арраджани со слов сказителя Садака б. Аби-л-Касима Ширази, дошло до нас только в одном списке первой половины XIV в. В то же время Абу Муслим-наме ("Книга Абу Муслима"), время записи которой и имя лица, ее произведшего, нам неизвестны, дошла до нас в 38 копиях, представляющих по крайней мере три версии, самая ранняя из которых переписана в XVII в. Соотношение 1 список (XIV в.) и 38 (XVII-XIX вв.), казалось бы, говорит о полной потере читательского интереса к Китаб-и Самак-и Аййар в последующие века. Такой вывод, видимо, был бы справедлив для письменных литературных и научных памятников, авторских по своему происхождению, чей текст был достаточно закрепленным и устойчивым. Но мы здесь имеем дело с народными романами, которые могли не нуждаться в переписке и распространяться по традиции профессиональными сказителями-рассказчиками. Следует заметить, что подавляющая часть списков Абу Муслим-наме была произведена в Средней Азии и Восточном Хорасане и, можно предположить, для нужд самих сказителей (киссахан). Этот вопрос далеко не праздный. Правильное объяснение подобных явлений приблизит нас к пониманию той модели мира, которая отражалась в представлениях человека средних веков в Иране, а следовательно, поможет лучше понять его культурный и духовный мир. Чтобы создать сколько-нибудь приближенную модель культурной жизни социума на каком-либо его этапе, историку культуры более важна множественность и повторяемость явления, чем единичность его проявления.