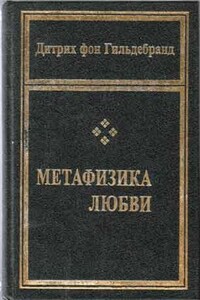«Опыт и понятие революции». Сборник статей | страница 53
В “установлении” фетишизма, по Фрейду, ключевую роль играет время: здесь “выдерживается такой процесс, который напоминает приостановку воспоминания при травматической амнезии. Как и в последнем случае, интерес здесь также как бы приостанавливается на полпути, в качестве фетиша удерживается нечто вроде последнего впечатления, предшествующего жуткому, травматическому”[104].
Платонов как будто специально следует структуре, описанной Фрейдом. Его фетишизм проявляется и в литературе, и в жизни[105]. Вот, например, такое описание в “Чевенгуре”:
Он еще раз посмотрел на ее восходящие ноги и не мог ничего ясно понять; есть какая-то дорога от этих свежих женских ног до необходимости быть преданным и доверчивым к своему обычному, революционному делу, но та дорога слишком дальняя, и Сербинов заранее зевнул от усталости ума[106].
И еще, тоже “Чевенгур”:
Потом открылась на высоком месте торжественная белая усадьба, обезлюдевшая до бесприютного вида. Колонны главного дома, в живой форме точных женских ног, важно держали перекладину, на которую опиралось одно небо. Дом стоял отступя несколько саженей и имел особую колоннаду в виде согбенных, неподвижно трудящихся гигантов. Копенкин не понял значения уединенных колонн и посчитал их остатками революционной расправы с недвижимым имуществом[107].
Материальность образов Платонова связана со своеобразным фетишистски-меланхолическим комплексом[108]. “Остранение”, нарочитое неузнавание вещей, колебание между позицией “недолета” (“Котлован”) и “перелета” (“Чевенгур”), позиция на грани конца, “накануне ликвидации”, энигматическая подвешенность образов, странники перекати-поле (отрезанные ломти или отрубленные фаллосы), как, например, пешеход с говорящим именем Луй; образы пустоты, полости и опустошенности, фигура мертвого отца (явно с удовольствием “убиваемого” автором) и матери-земли, которую нужно напитать и сделать плодородной, — все это образует своеобразную фетишистскую поэтику, в которой отчуждение становится эстетическим принципом, принципом изображения вещей в их прозаической материальности, но в то же время их эстетического подвешивания[109]и постоянного разрушения, необходимого для их воссоздания. Фетишизм позволяет Платонову передать специфическое застывание и зависание революционного события, хранить его незавершимость, “перманентность”[110]. Но он же помогает воспроизводить желание, использовать тревогу как плечо силы для прыжка, для утопического именования фантазма, в котором бы смыкались несводимые противоположности (единичности и тотальности, расчета и страсти).