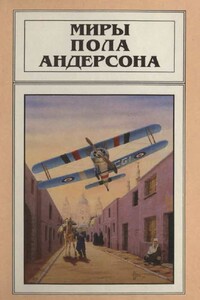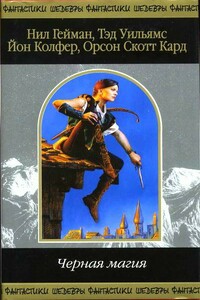Арена теней | страница 40
Что нельзя взять на растопку стул, хотя на фронте мы сожгли однажды целое пианино, чтобы сварить гнедую в яблоках кобылу, это на худой конец я еще могу понять. Пожалуй, понятно и то, что здесь, дома, не следует потакать непроизвольным движениям рук, которые хватают все, что плохо лежит, хотя на фронте добыть жратву считалось делом удачи, а не морали. Но что петуха, который все равно уже зарезан, надо вернуть владельцу, тогда как любому новобранцу ясно, что, кроме неприятностей, это ни к чему не приведет, — по-моему, верх нелепости.
— Если здесь поведется такая мода, то мы еще с голоду подохнем, вот увидишь, — возбужденно утверждает Вилли. — Будь мы среди своих, мы бы через полчаса лакомились роскошнейшим фрикасе. Я приготовил бы его под белым соусом.
Взгляд его блуждает между плитой и дверью.
— Знаешь что, давай смоемся, — предлагаю я. — Здесь уж очень сгустилась атмосфера.
Но тут как раз возвращается Фрау Хомайер.
— Его не было дома, — говорит она, запыхавшись, и в волнении собирается продолжать свою речь, но вдруг замечает, что Вилли в шинели. Это сразу заставляет ее забыть все остальное. — Как, ты уже уходишь?
— Да, мама, мы идем в обход, — говорит он, смеясь.
Она начинает плакать. Вилли смущенно похлопывает ее по плечу:
— Да ведь я скоро вернусь! Теперь мы всегда будем возвращаться. И очень часто. Может быть, даже слишком часто.
Плечо к плечу, широко шагая, идем мы по Шлоссштрассе.
— Не зайти ли нам за Кайлом? — предлагаю я.
Вилли отрицательно мотает головой:
— Пусть лучше спит. Полезней для него.
В городе неспокойно. Грузовики с матросами в кузове мчатся по улицам. Развеваются красные знамена.
Перед ратушей выгружают целые вороха листовок и тут же раздают их. Толпа рвет их из рук матросов и жадно пробегает по строчкам. Глаза горят. Порыв ветра подхватывает пачку прокламаций: покружив в воздухе, они, как стая белых голубей, опускаются на голые ветви деревьев и, шелестя, повисают на них.
— Братцы, — говорит возле нас пожилой человек в солдатской шинели, — братцы, наконец-то мы заживем получше. — Губы его дрожат.
— Черт возьми, тут видно что-то дельное заваривается, — говорю я.
Мы ускоряем шаги. Чем ближе к собору, тем больше толчея. На площади полно народу. Перед театром, взобравшись на ступеньки, ораторствует солдат. Меловой свет карбидной лампы дрожит на его лице. Нам плохо слышно, что он говорит, — ветер неровными затяжными порывами с воем проносится по площади, принося со стороны собора волны органных звуков, в которых тонет высокий отрывистый голос солдата.