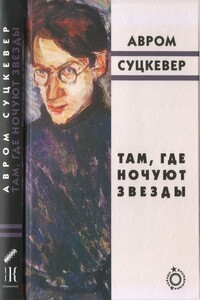На чужой земле | страница 36
— Вы, пани, еще станете знатной дамой, поверьте. Павелек знает, что да как. Через его руки и графини, и княгини проходили… Павелек знает…
Он со скрипом повернул ключ в замке, кусочек чужого, забытого мира прошмыгнул в полуоткрытую железную калитку в воротах, и вот она гулко захлопнулась за спиной…
Улица все так же бежит под гору, и все так же тянутся вдоль нее каменные стены, и на мостовой та же брусчатка, и дрожки катятся вниз по склону, может, те же самые дрожки, что когда-то давным-давно. И тот же самый магазин «Мадемуазель Анетт» с дамской шляпой на золотой вывеске!
Но почему так шумит в голове, почему ноги так заплетаются?
Кажется, солдаты тогда были не такие, как теперь: другие головные уборы, другие мундиры. Темнеет, запираются ворота в домах. Высокое здание с узкой железной дверью. Лавка еще открыта. Бублики смотрят с витрины, такие свежие, румяные. Но рука пуста, Павелек поцеловал руку, и она осталась пуста, и автомобиль летит как сумасшедший!
И белое платье, и чулки забрызгал!..
Ветер все сильнее. Толкает в спину. Даже фонарь качается. Господи, хоть бы не погас. А то совсем страшно станет. Он же так долго был единственным другом в темные ночи, единственным, на кого можно опереться…
Вдали вырисовывается черный силуэт, он бредет под гору и возле фонаря превращается в промокшего под дождем трубочиста. Трубочист смотрит на девушку в белом летнем платье, сверкает белками глаз на черном лице и бросает:
— Пошли…
Маня, смерив его взглядом, пускается за ним следом по скользкому тротуару.
Ветер носится среди деревьев, раскачивает фонари, пытается стащить с девушки легкое платье, оторвать вишенки с мятой тюлевой шляпки…
Бесконечный кирпичный забор больницы тянется вдоль мостовой и роняет отломанные ветром ветки на пустынную улицу, на бредущую по ней черно-белую парочку…
1922
На чужой земле
Оно появилось ранним утром — предчувствие близкой беды.
Выстрелов не было слышно, и в ясном голубом небе — ни огненных сполохов, ни клубов дыма. По всем дорогам, как в любой базарный день, к местечку тянулись крестьянские телеги. Мужики лежали на соломе, дымя самокрутками. Изредка, когда глупые волы слишком глубоко всаживали шеи в ярмо, опуская до земли крутые рога, над дорогой разносился хриплый, гулкий, как из бочки, крик:
— Цобэ! Цобэ!..
Казалось, что крестьяне, как всегда, тупы, равнодушны и ленивы, страшно ленивы. Но в каждой морщинке на мужицких лицах, в каждом взгляде, в каждой складке крестьянских рубах евреи замечали что-то скрытое, затаенное. Подходили к телегам, ощупывали туго набитые мешки, спрашивали, будто ни к кому не обращаясь: