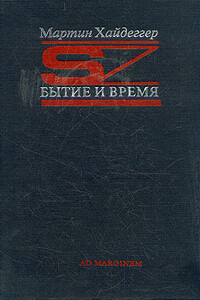О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль | страница 86
Хайдеггер справедливо подчеркивает, что Рильке было свойственно осуществлять смиренное служение, а не проективную самостную волю. Это следует из интуитивного понимания изначального (нормального, пребывающего в истине) состояния мира. Поэты-в-истине занимаются крайне рисковой работой: черпают из бытия. «Создавать – значит черпать. Черпать из источника означает: принимать натекающее и приносить воспринятое. Более рисковая отвага того, кто послушен в служении намеревания, не делает ничего. Она воспринимает и передает воспринятое. Она приносит до тех пор, покуда воспринятое не развернется во всей своей полноте. Более рисковая отвага свершает, осуществляет, но не производит…» Это словно бы парафраз из Лао-цзы. Одновременно это прямой комментарий завета, выработанного для себя Райнером Рильке: «Вслушивание и послушание!»
Когда Хайдеггер говорит об отваге редких поэтов-сказителей, я задаю себе вопрос: а возможна ли вообще какая-либо отвага в эстетической сфере, не находится ли всякая истинная отвага на пути к преодолению поэтом своей этической немощи? Даже не к преодолению комплексов в своих отношениях с социумом. Не есть ли истинно поэтическая отвага – не отвага к писанию тех или иных стихов (романов, картин и т. д.), а отвага к «поэтическому жительствованию» в том смысле, как это понимал Гёльдерлин? Эстетическими отвагами двадцатый и двадцать первый века переполнены, равно отвагами безопасно-отважных жестов в сторону социума. (История поэзии эпохи Сталина – особая статья, и здесь Мандельштам, безусловно, отважно-рискующий из когорты, воспетой Хайдеггером). Но существовали ли отважные поэты, определяющие для себя кощунством и деградацией каждый день, прожитый вне общения с богами? Прожитый не в вербальном, но в экзистенциальном пространстве. Отнюдь не случаен кризис Рильке 1914 года, когда он поставил себе задачей Herzwerk, то есть сердечную работу (внутреннее делание) как главную творческую задачу. Не входит ли всякий истинный поэт в зону тех к себе вопросов, где немота становится неизбежной, но в качестве не эмпирической немоты, а изначального молчания в ареале дао?
В работе о Тракле Хайдеггер блестяще завершает свою концепцию сущности поэзии и назначения тех редких ныне поэтов (то есть существ, еще способных к поэтическому жительствованию), которые сражаются на рискующем пограничье, принимая весть сакрального, улавливая сияние, еще идущее от почти стертых следов божественных землян. Философ задает вопрос: каков топос, какова местность поэзии тех поэтов, которые вошли в поле его внимания? И отвечает: эта местность – отрешенность. Отрешенность от чего? Конечно, от «духа времени», от этой скудной, утратившей всякое представление о духовном эпохи, от выродившегося, растленного человеческого рода. Хайдеггер спрашивает, почему Тракль никогда не пользуется словом «духовное», «духовность», но предпочитает «священное». И отвечает: потому что ныне даже понятие духовного извращено, будучи повернуто в рациональную, интеллектуальную и идеологическую сферу. «Отрешенность – духоносна, пронизана духом, порождена духом, и тем не менее она отнюдь не "духовна" в метафизическом смысле». То есть в смыслах западной метафизики от Аристотеля до Ницше. В этой отрешенности, в измерении этой медитационной созерцательности, настроя на всю глубину интуиции, на всю молчь вслушивания пребывает душа и Гёльдерлина, и Рильке, и Тракля.