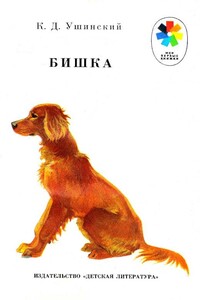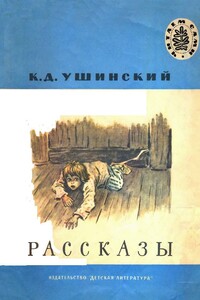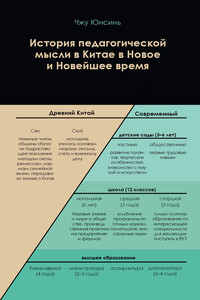Педагогические идеи К.Д. Ушинского | страница 20
Если ребенок готов целый день просидеть над книжкой или механически вызубрить целые страницы, лишь бы избежать самостоятельного думания, значит, его познавательные способности уже приглушены чем-то...
А причины всех этих недостатков и пороков воспитания могут быть разные: влияние среды и дурной пример старших, скованность сил ребенка, появившаяся, возможно, от страха перед наказанием, возможно, от укоренившейся скверной привычки, от образования отрицательных качеств и т. д.
Чтобы избежать просчетов воспитания, необходимо как можно раньше приобщать детей к труду, к самостоятельной деятельности, к самостоятельному мышлению. Все, что может ребенок сделать сам, все, что ему посильно, он должен делать. И правилом здесь могут быть,— советует Ушинский,— прекрасные слова шиллеровского Телля, ответившего на просьбы сына поправить ему испорченный лук: «Я?—нет! Лучшая помощь — сделай сам».
Дети любят трудиться. Даже играя, они приобщаются к труду. Они вносят в игры и серьезные занятия. А иногда работающий ребенок так увлекается игрой, что не отличает игры от серьезных дел, получая величайшее наслаждение, скажем, от копания грядок, плетения корзинок, шитья кукол.
И вот эту-то игру-труд и должен использовать родитель и воспитатель как средство развития активности детей, как средство приобщения детей к величайшему воспитателю, каким и является свободная инициативная деятельность ребенка.
В игре формируются все стороны детской души, писал Ушинский, ум ребенка, «его сердце и его воля, и, если говорят, что детские игры предсказывают будущий характер и будущую судьбу ребенка, то это верно в двояком смысле: не только в игре высказываются наклонности ребенка и относительная сила его души, но сама игра имеет большое влияние на развитие детских способностей и наклонностей, а следовательно, и на его будущую судьбу».
Знакомясь с педагогическим наследием К. Д. Ушинского, поражаешься не только энциклопедичности его мышления и воззрений, но и той глубине предвидения, той совершенно блестящей интуиции, которые позволили ему уже в те времена обозначить основные контуры теории коллективного воспитания.
«Ни один воспитатель,— утверждал он,— как бы ни была успешна, неусыпна и обширна его деятельность, положительно не может руководить всей душевной деятельностью даже немногих воспитанников, поэтому он должен окружать их такой сферой, в которой они легко могли бы найти деятельность, если не полезную, то, по крайней мере, не вредную».