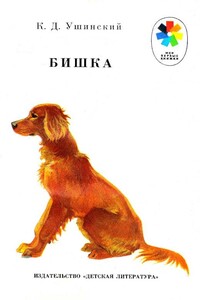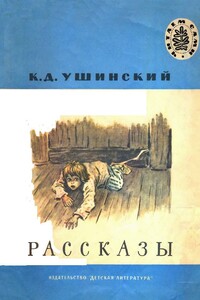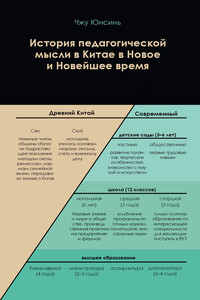Педагогические идеи К.Д. Ушинского | страница 16
Нет, я не намерен оправдываться перед столь изощренной эрудицией, поднаторевшей в спорах о значении понятий.
Я повторяю только то, что сказал. Воспитатель должен быть сильной личностью. Он призван воспитывать сильных людей. Сильных душой и телом, глубиной познания и молодостью, щедростью души и ненавистью ко всему казенному, алчному, бесчеловечному.
— И все это без тени сомнения? Без оглядки на то, что было и будет сделано? — Конечно, нет.
Процесс думания, осмысления и анализа своих настоящих и будущих действий и есть та зауженная ячейка, через которую непременно должна пройти педагогическая активность.
Ушинский как педагог сам был невероятно радикальным и бескомпромиссным, когда дело касалось косности, невежества и пошлости, но он становился необыкновенно деликатным человеком, когда общался с детьми, с учителями, разделявшими передовые взгляды на просвещение, народ, науку.
Он обладал подлинно педагогическим тактом, без которого, по его мнению, ни один педагог «никогда не станет хорошим воспитателем-практиком...». «...Никакая психология,— пишет он,— не может заменить человеку психологического такта, который незаменим в практике уже потому, что действует быстро, мгновенно, тогда как положения науки принимаются, обдумываются и оцениваются медленно. Возможно ли представить себе оратора, который вспоминал бы тот пли другой параграф психологии, желая вызвать в душе слушателя сострадание, ужас или негодование? Точно так же и в педагогической деятельности нет никакой возможности действовать по параграфам психологии, как бы ни твердо они были заучены».
Почему же Ушинский как бы разделяет знания психологии, физиологии с психологическим состоянием ребенка? А дело в том, что эти вещи действительно разные. Ушинский подходит к ребенку скорее и как педагог, и как глубокий психолог. Его прежде всего интересует личность ребенка во всей своей полнокровной целостности. Педагогические методы и педагогические средства применяются не к отдельным психическим качествам дитяти, а к такому ребенку, «каков он есть и действительности, со всеми его слабостями и во всем величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе и в обществе, среди народа, среди человечества, и наедине со своей совестью, во всех возрастах, во всех положениях, в радости и горе, в величии и унижении, и в избытке сил и болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. Он должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких деяний, историю зарождения преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. Тогда только он будет в состоянии почерпать в самой природе человека средства воспитательного влияния,— а средства эти громадны!»