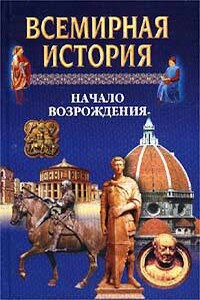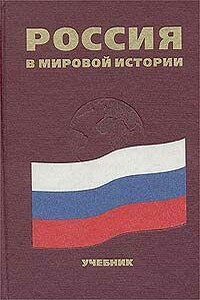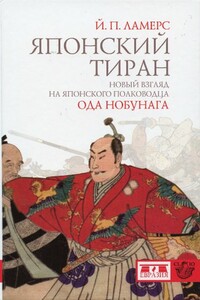Провансальский триптих | страница 94
Современному городу едва ли ведомы непроглядная темень, впечатляющее воздействие одинокого огонька или одинокого далекого крика[169].
Действительно, тишина в городах Юга полна звуков, создающих музыкальный фон ночи. Далекий шум автомобилей, ветер в листве, сонное воркование голубей, собачий лай, вой сирены SAMU[170], жужжание самолета, невнятные голоса, шорохи, шелест… все это слышится постоянно, а значит — неслышимо: такая тишина может включать в себя все звуки, подобно белому цвету, который, являясь суммой всех цветов, остается белым.
Однажды летней ночью, возвращаясь домой с площади Помм, я спускался по темной узенькой улочке-лестнице. Уже издалека была видна полоска света поперек мостовой; свет падал из открытой двери отделенного от улицы занавеской из бусин бара, откуда доносились гитарные аккорды и изумительный, с оттенком легкой меланхолии, девичий голос. Девушка пела старинную народную балладу на языке[171], который я не сразу узнал, хотя слова понимал без труда.
Я знал эту песню в более поздней французской версии. Когда-то, очень давно, в одной краковской квартире ее спел для нескольких друзей Серж Керваль[172]. Меня всегда очаровывали простота и вместе с тем страстность желаний, о которых в ней идет речь.
Как во многих других народных песнях, тема ее — одиночество, горькая доля и тоска.
Девушка — красивая и печальная — просит соловья:
Лети, соловушка, лети во Францию и расскажи про меня моей матушке. Но отцу ничего не говори, соловушка, потому что он нашел мне плохого мужа. Выдал за пастуха, который заставляет меня пасти коз. Самую лучшую я потеряла, но ее нашел молодой волопас.