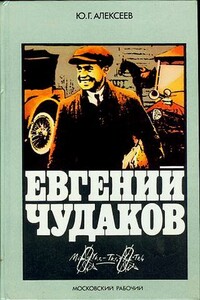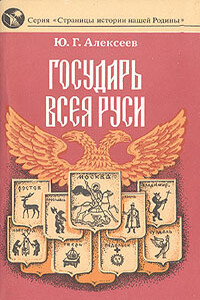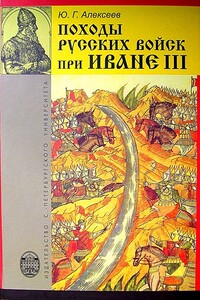Освобождение Руси от ордынского ига | страница 36
Миссия архиепископа Вассиана должна была, по-видимому, иметь особое значение. Увещевать братьев посылается не боярин, а виднейший иерарх русской церкви, первое лицо после митрополита. Еще в 1435 г. Вассиан становится игуменом Троицкого Сергиева монастыря, т. е. уже тогда был, надо полагать, пожилым и опытным человеком. После 11 лет игуменства в крупнейшем русском монастыре Вассиан пробыл некоторое время архимандритом столичного Спасского монастыря, а в декабре 1467 г. получил архиепископство.[161] Вассиан — ближайший союзник великого князя в высших церковных сферах. Этот союз, как мы видели, проявлялся и во время «брани» о Кирилло-Белозерском монастыре в 1478 г., и в спорах по поводу освящения Успенского собора летом — осенью 1479 г. Близость архиепископа Вассиана к великому князю проявляется и в том, что именно он 4 апреля 1479 г. вместе с троицким игуменом Паисием крестит старшего сына великого князя от Софьи Фоминишны, будущего Василия III.[162]
Посылка авторитетнейшего представителя церкви к мятежным князьям в феврале 1480 г. может свидетельствовать о том, сколь серьезно воспринимали в Москве сложившуюся ситуацию и какие большие усилия прилагали к достижению мирного соглашения. Миссия Вассиана должна была, по-видимому, максимально разрядить обстановку и создать благоприятные условия для мирного разрешения конфликта. Однако на деле этого не происходит. Братья на этот раз не отказываются от переговоров: «…съ архиепископлих речей и послаша со архиепископом к великому князю бояр своихъ, князя Василиа и Петра Микитича Оболенскых».[163] Однако мятеж отнюдь не прекращается, а, напротив, приобретает все более опасный оборот.
«А оттоле сами поидоша к литовскому рубежу и, пришедше, сташа в Луках, а х королю послали, чтобы их управил в их обидах с великим князем и помагал».[164]
Итак, убедившись, что путь на Новгород закрыт, мятежные князья круто меняют направление своего движения и выходят к литовскому рубежу у Великих Лук. Отсюда они вступают в переговоры со злейшим врагом великого князя — королем Казимиром. Захват Великих Лук и обращение к королю — высшая точка феодального мятежа 1480 г.
Идя по Русской земле, отряды князей Андрея и Бориса, по свидетельству псковского летописца, «грабиша и плениша, токмо мечи не секоша». Захват же ими Великих Лук был настоящим бедствием для населения: «…а Луки без останка опустѣша, и бѣ видети многым плач и рыдание».[165]
Лучанам, жалоба которых на наместника послужила поводом для феодального мятежа, несладко пришлось под копытами удельно-княжеской дружины. Они на своем опыте получили возможность сравнить суд и управу великого князя с порядками феодальной анархии. То противостояние социально-политических сил, которое обозначилось в суде над наместником, в ходе мятежа становится все более четким и материальным: удельные князья топчут города и уезды, из-за которых великий князь судит своих наместников, пустошат земли, за жителей которых великий князь вступает в конфликт со своим вассалом. Феодальная анархия дает бой порядкам централизованного государства.