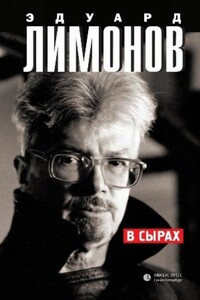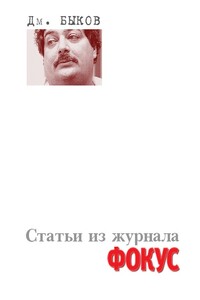Старик путешествует | страница 14
Она пошевелилась. Не оборачиваясь, он понял, что она села в постели. Поднялась. Покачнулась. То, что покачнулась, было понятно по едва слышному чертыханию. Ушла в ванную. Ничего ему не сказав. (А что, собственно, ему говорить? Спросить: «Сидишь?» Он бы ответил односложно: «Сижу».)
Вернувшись из ванной, она из темноты спросила: «Сколько?» Он, нажав кнопку мобильного телефона, увидел сколько и озвучил ей сколько.
Пока она одевалась, он спрятал тетрадку в джинсовый чемодан, опять отметив, как ненужно много вещей он привёз в Ялту.
Она сменила брюки, надев брюки в мелкую чёрно-белую клеточку, повязала пышный шарф, и они вышли в коридор и пошли по коридору с картинами. Спустились по мраморной лестнице.
На площадке лестницы сидел ещё ночной охранник, он приветливо сказал им «доброе утро!», а они неприветливо пробормотали в ответ «у… доброе». И вот они уже на улице Рузвельта. А там адски пусто и уже слышно, как швыряется собою море.
Мимо надувных аттракционов (две ёлки и надувные пещеры с надувными горами) они прошли на набережную, где звучала громкая музыка, стояли двое полицейских — мужчина и женщина — и швырялось-таки утреннее море.
Ему всё равно было, куда идти. Как он считал, куда бы он ни пошёл, своей судьбы ему не изменить. А она?
Вчера она сказала ему в ответ на его замечание, что она всё снимает и снимает на мобильный, сказала коротко и просто: «Я турист!» — и лучше сказать не могла. Она — турист. Сегодня она тоже снимала. Всё вокруг.
К 14 часам к «Бристолю» подъехал большой Костя. В его сером автомобиле рядом с водителем Костей сидел человек лет сорока, отрекомендовавшийся «краеведом», и они поехали в Севастополь.
Пристрастие к еврейкам
Всё проистекает, имеет свой источник откуда-то.
Моё влечение к молодым женщинам-еврейкам — тоже.
У меня в детстве были приятели, два брата: Мишка и Лёнька Тернеры. Старший, Мишка, был похож на отца — молодого инженера Додика. Младший, Лёнька, — на маму Бэбу.
Моя мать, вероятно, была юдофилом. Моя мать дружила с еврейками, гордилась тем, что её принимают в еврейских компаниях. Мать моя была неглупая женщина и, видимо, понимала, что евреи повыше будут, образованнее русских.
А я был влюблён (ну сколько мне было? Лет девять, ну не старше одиннадцати точно), причём, как я помню, плотской любовью, просто-таки пылал к этой молодой еврейке, матери моих дружков Мишки и Лёньки, — к Бэбе.
Оттого что они жили на первом этаже, окна у них были постоянно зашторены. И это обстоятельство придавало их комнате таинственный вид.