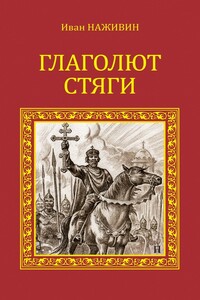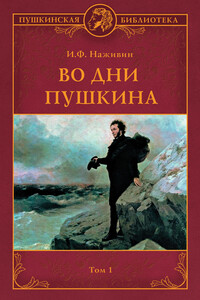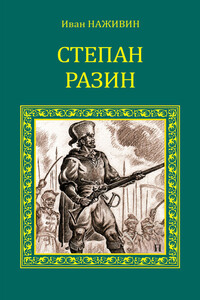Перун | страница 123
Потом приехала на несколько дней шумная, веселая, полная жизнью Лиза. Она усердно работала теперь при московских клиниках, посещала всякие рефераты, вотировала всюду, где можно только вотировать, и была убеждена, что мир идет вперед и что идет он вперед, только благодаря усилиям ее и ее приятелей, которые открывают перед человечеством такие светлые, безбрежные горизонты. А когда приехала навестить Ивана Степановича мать Агнесса, игуменья, его старая приятельница, Лиза говорила с тихой старухой свысока… Важные дела в Москве не позволили однако Лизе побыть в лесу подольше, она перецеловала всех, звонко смеясь, закуталась в халат Сергее Ивановича и унеслась из лесов, конечно, непременно с курьерским, причем дорогой до станции она старалась хоть немного развить Гаврилу, на прощанье на чай ему не дала, потому что это унизило бы его человеческое достоинство, а пожала ему только руку, чем очень сконфузила его перед станционными сторожами… В этом же поезде уезжал и Алексей Петрович — Мэри Блэнч давно уже жила в Москве, в «Славянском Базаре», а он часто наезжал сюда по лесным делам, — но оба сделали вид, что не узнают друг друга.
И, сев в вагон, Лиза горько всплакнула. Она ездила в «Угор», но Андрей был так далеко от нее, как будто бы он был на луне. И он не заметил даже, как была она первые полчаса своего пребывания в «Угоре» кротка с ним и со всеми. Но потом Лиза вспомнила, что плакать сознательной личности стыдно, утешилась и стала просвещать своих спутников по части политической, уверяя их, что в России все не годится ни к черту…
Сергей Иванович видел всю жизнь, как во сне, как на приглядевшейся картине, — он то уходил в себя, сгорая в этом бушевавшем внутри его пожаре, то, спрятавшись в сырой, душистой чаще молодого ельника, горячими глазами смотрел на старые монастырские стены, стараясь хоть издали, хоть мельком увидеть тень Нины. Но никакого намека на ее присутствие в монастыре не было. Изредка проходили, низко кланяясь одна за другой, монахини, тащились редкие в эту пору года богомольцы, уныло и гнусаво тянули у старинных сводчатых ворот свои песни слепые, просили милостыню калеки, жертвы японской войны, пели над лесной ширью колокола, но ее не было, не было… Он понимал, что все кончено, что надо побороть, сломить себя, что надо как-нибудь жить, работать, но ничего поделать с собою он не мог…
Софья Михайловна решила, что здесь, в сыром лесу, она непременно захворает и собралась в Москву, тем более, что Капа, старшая, разорвала с мужем и собиралась на зиму с детьми в Крым, отдохнуть от пережитых бурь. Шура, прощаясь с отцом, рыдала, плакал старик, плакала Марья Семеновна. И Шура обещала устроить только детей, приготовить им все тепленькое к зиме, посмотреть, как они без нее живут, как началось ученье и снова приехать к старику.