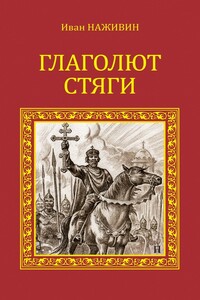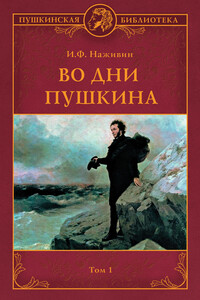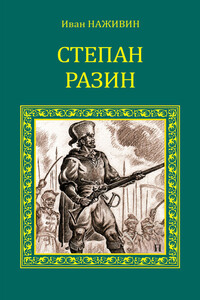Перун | страница 122
Как будто неожиданно приехала в лесную усадьбу Софья Михайловна с Шурой. Иван Степанович тихо обрадовался им. Шура, худенькая женщина с доброй улыбкой, с тихой, нежной, беззащитной в суровой жизни душой, как и Марья Семеновна, почувствовала веяние близкой смерти над белой головой любимого отца, была с ним особенно нежна и звала его, как и раньше, в детстве, «папик», а он не мог смотреть на нее без слез, ласкал ее, старался сделать для нее что-нибудь приятное. И очень жалко старику было Софью Михайловну, маленькую, худенькую старушку, с когда-то пышными белокурыми, а теперь такими жиденькими, грязно-желтыми волосами, с сердитыми глазами, — жалка была ему эта ее тонкая шее с обвисшей кожей, жалко, что она так стара и слаба, жалка эта ее постоянная раздраженность. В молодости она знала и тюрьму и далекую ссылку, но теперь крестьян она звала мужичьем или сиволапыми, боялась крыс, лягушек, пауков и даже кузнечиков и всюду и везде чувствовала опасные сквозняки. И в то время, как для Ивана Степановича все в мире стало источником радования и умиления, для нее все было причиной огорчения, злобы или страха: он на росистой траве видел алмазные россыпи, она прежде всего боялась тут сырости, которая сейчас насквозь промочит ее башмаки, он любовался игрой голубей с их лазоревыми шейками, она требовала изгнать эту несносную птицу, которая все возится за наличниками и мешает ей спать, от лампады она непременно ожидала пожара и всячески старалась не дать Марье Семеновне газет, так, на зло: «вот еще! Что она тут понимает!?» И вот это-то ее озлобление там, где было столько радости, особенно печалило старика: голодный человек топтал ногами хлеб, жалкий нищий сидел на золотой россыпи и не понимал этого! У них, как и у огромного большинства супругов, не все в жизни было гладко, — ему хотелось теперь все это забыть, все простить от всей души, ему хотелось последней ласки, но, вся занятая собой, в постоянном страхе перед сквозняками и крысами, эта маленькая старушка с желтыми волосами и жалкими сердитыми глазами не замечала того, что происходить с мужем и немножко ворчала, что он неизвестно зачем вызвал ее с Шурой осенью, когда так легко простудиться, в этот хмурый, противный лес…
Невесело было в лесной усадьбе, тем более, что Сергей Иванович, похудевший, почерневший, точно опаляемый внутренним огнем, никак не мог, несмотря на все усилия, быть гостеприимным, веселым, ласковым, как прежде. Его, видимо, тяготило все и все, он беспрерывно курил, он часто задумывался в разговоре и не слышал, что ему говорили; а то вдруг встанет среди беседы, возьмет ружье и исчезнет в лесу. Все женщины понимали, что причиной его страданий — женщина, но так как, по их мнению, в лесном краю не было близко никого, кто мог бы заставить его так мучиться, то все решили, что он тоскует по когда-то так горячо любимой им жене. Иногда мелькала мысль: уж не Ксения ли Федоровна? Но это было всем почему-то так неприятно и жутко, что предположение это тотчас же отбрасывалось… Даже Ваня, и тот, чувствуя, что вокруг что-то неладно, замечая, что у тети Шуры и Марьи Семеновны глаза часто красны, что отец всегда молчит, хмурится и убегает, притих. Пробовал он занимать деда своими новыми игрушками, которые привезла тетя Шура, но хотя дедушка и делал вид, что все это очень занимает его, Ваня несомненно чувствовал, что дедушка уже где-то далеко, что он едва слышит его, и встревоженный мальчик смотрел на старика круглыми, недоумевающими глазами и убегал к своему другу Петро, чтобы часами рассматривать вместе с ним прейскуранты…