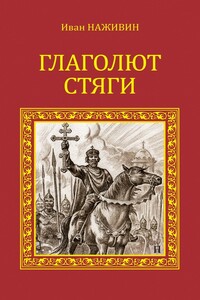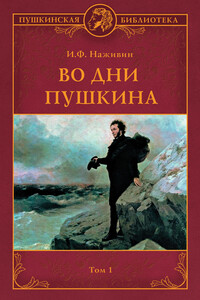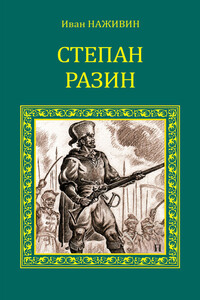Перун | страница 117
И острая боль прорезала вдруг душу Андрее.
— Нет, нет… — хватаясь за голову, прошептал он. — А вдруг он узнает?! Подумай, какая мука будет это для него! Сразу два удара: и ты, и я… Ведь он мой приемный отец…
— Что делать, что делать! Я не виновата, ни в чем не виновата… — горячо и как будто сердито даже, защищаясь, говорила она. — Это не то вот, что я взяла да и выдумала: дай-ка, я его огорчу, дай-ка, я полюблю другого… Это пришло само, незваное, непрошеное, и я — ничего не могу! Я боролась, но ничего не могла… А теперь и не хочу мочь… Быть счастливым — право человека! Он взял от жизни свое, а я беру свое, и на его костер я не хочу и не хочу! Почему мы с тобой хуже его? Почему мы должны испугаться?!.. Я — нет! Я свое возьму… Отец! Это выдумка… Ты не сын его, а только приемыш, т. е., в сущности, совершенно ему чужой человек…
— Нет, это не верно… — сказал Андрей. — Это не верно… Пусть по крови, по паспорту он мне чужой человек, но он все эти годы был мне самым настоящим отцом…
— А-а… Ну, если ты хочешь сам себе выдумывать препятствия… драмы всякие… если моя мука для тебя ничто… то, конечно…
— Что ты говоришь? Что ты говоришь?! — перебивал Андрей. — Ведь ты же знаешь, что все это вздор, что я измучен, что я без тебя дышать не могу…
И плела любовь свои горячие сказки, и тихо дремал весь золотой, старый парк, и смутно белел в серебристом сумраке старый Перун…
Старый дом, казалось, спал. Все окна были темны — только в одном красной, кроткой звездой светилась лампада: то пред Владычицей, в сердце которой было воткнуто семь окровавленных мечей, исступленно молилась Наташа, прося ее дать ей силы, и плакала, и билась. Нет, конец — пусть тетка живет, как хочет, а она больше не может… И среди темного моря лесов каким-то бело-золотым цветком вставал в ее воображении ее любимый монастырь Спаса-на-Крови. С его узкими окнами-бойницами, с его высокими белыми стенами он представлялся ей какою-то отрадной крепостью, в которой она спрячется от скорбей мира. И из жидких глаз ее по белому, с синими жилками на висках, лицу катились горячие слезы…
А Лев Аполлонович так, как был, в крылатке и широкополой шляпе стоял у себя в темном кабинете, у окна и думал. Он никого не осуждал, он не протестовал, он только устал и хотел покоя… Но вдруг, совсем неожиданно, в нем точно плотина какая прорвалась и старик затрясся и как-то странно заквохтал, давясь судорожными рыданиями…
XXI
МЕРТВАЯ ЗЫБЬ
Была глухая ночь. Он сидел у своего письменного стола, в старом привычном кресле и думал. Первый порыв горя прошел и встал грозный вопрос: что же делать? И ответа не было. Все спуталось. Как на море после яркой вспышки бури еще долго катятся большие, тяжелые, угрюмо-свинцовые валы мертвой зыби, так в душе Льва Аполлоновича катились теперь одна за другой тяжелые, угрюмые мысли, и не было им конца, и не давали они никакого результата. Да, тогда, на крейсере он думал, что порт, штиль, мир это только подарок судьбы, а нормальное состояние моряка это буря и бой, так и теперь в тихом «Угоре» оказалось, что порт, штиль мир это только приятная случайность, а нормальное состояние человека это буря и борьба…