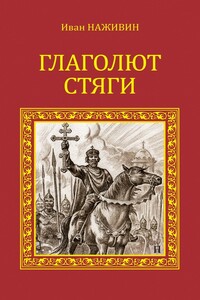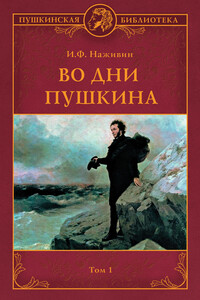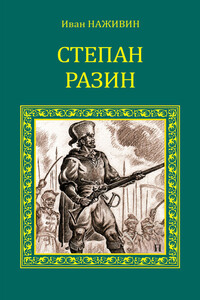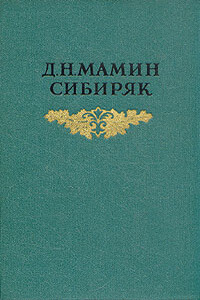Перун | страница 108
— Ну, и что же дальше? — спросил мальчик сонным голосом.
— Дальше? Ничего… Это все. Останки петуха няня бросила в печку, а меня долго бранила, называя и глупым, и неблагодарным, и не знаю еще как… Ей было очень обидно, потому что петух был ее подарок мне. Так-то вот, братец ты мой…
Мальчик молчал. Нет, сказки деда ему не нравились. Ему казалось, что дед рассказывает их не столько ему, сколько себе. И убежденно он сказал:
— Нет, Марья Семеновна рассказывает лучше…
— А про что же она тебе рассказывает?
— Про Ивана-царевича, про серого волка, про жар-птицу…
— Да ведь и я рассказывал тебе, братец, про жар-птицу, — только по другому немножко… — сказал дед. — Эх-ты, голова!.. Идем-ка лучше спать… О-хо-хо-хо… Да, вот когда я помру, а ты вырастешь большой, так иногда, когда встретишь ты в жизни какого-нибудь эдакого большого петуха, вспомни, брат, своего деда… Снаружи они все, брат, жар-птицы, а внутри — нет ничего… Так то вот… Пойдем…
Рэкс стал и благодарно лизнул руку старого хозяина: такие вот тихие семейные вечера он любил. Правда, она понимал не все, что говорили люди между собой, но так сладко было дремать в прохладе под это тихое журчанье слов человеческих. А что они значат, — не все ли это, в конце концов, равно?
Дед с Ваней ушли. А Сергей Иванович все стоял у темного окна, дышал душистой ночной свежестью и душа его была далеко: он не понял сказки про большого петуха…
XIX
СХИМНИЦА
Ночью Иван Степанович спал своим обычным легким старческим сном, и снов никаких особенных не видел, и ничего особенного не болело, и дум никаких особенных не было, но когда утром, на зорьке, он проснулся, он вдруг с несомненностью почувствовал, что в жизни его за ночь произошла какая-то огромная перемена. И вся такая обычная комната его, и портрет любимой дочурки, которая улыбалась ему изо ржи, и его бумаги, над которыми он прожил всю свою жизнь, и эта милая синяя пустыня леса, все точно отодвинулось от него куда-то в даль, точно стало уже чуть-чуть чужим, точно перешло в какой-то другой, уже не его, мир. Без слов, но ясно он понял, что пружина его жизни, раскручиваясь, подошла к концу. Он не испугался, не опечалился, а только весь исполнился какою-то новою, светлой важностью. И когда из-за леса долетел до него чистый звук монастырского колокола, он подумал, что хорошо бы зажечь лампадочку…
Он тихо умылся, оделся, но гулять, как обыкновенно, не пошел, а сел за стол и стал перебирать свои бумаги, но вскоре отодвинул в сторону и их и написал коротенькое письмо Софье Михайловне, жене. Марья Семеновна услыхав, что хозяин проснулся, но не выходит, встревожилась, не нездоров ли он, и, осторожно постучавшись, вошла. Иван Степанович ласково поздоровался с ней, успокоил, что все у него в порядке, что с удовольствием выпьет он вот сейчас кофейку, но и в глазах его, и в звуках голоса, и во всем она почувствовала что-то новое, пугающее: точно он оторвался от всего, точно он куда-то пошел. И, едва выйдя от него, она горько расплакалась, а потом немного справилась с собой и с красными, то и дело туманящимися слезой глазами принялась за свои обычные дела. Она никому ни слова не сказала о том, что она заметила, но весь дом скоро исполнился тишины и торжественности…