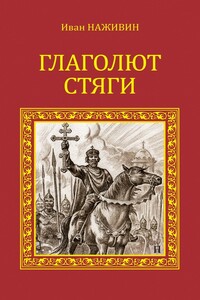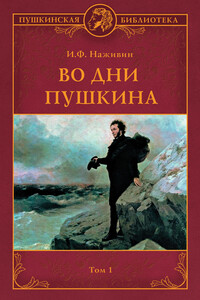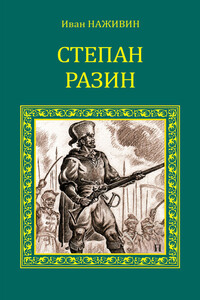Перун | страница 107
Он подошел в темноте к избе Гаврилы и сдал ему ружье для промывки и совсем расстроенного «Гленкара».
— Ну, как, Сергей Иванович, с полем?
— Нет, плохо что-то… Вот только одного черныша и взял… — отвечал тот и пошел домой.
Гаврила только головой покачал, — скушно ему было все это, — и, покормив «Гленкара», повел его на покой. Собаки встретили его зевками и стуком хвостов по полу и по удовлетворенному сиянию их глаз в сумраке, по самому запаху их, «Гленкар» узнал, как чудесно провели они этот день и, ложась на солому, он тяжело вздохнул: есть же вот, ведь, счастливые собаки на свете!
Сергей Иванович снял около кухни грязные сапоги и неслышно прошел к себе. В столовой ждал его холодный ужин, но он лишь жадно выпил три стакана парного молока и, привернув лампу, прошел в свою комнату. Он вернулся в нее не тем человеком, каким вышел из нее несколько часов тому назад. Прислушиваясь к тому, что делается у него в душе, он остановился у широко раскрытого окна. Из садика пахло доцветающими на клумбах цветами и с терраски слышался голос отца, неторопливо рассказывающего что-то внуку.
— Нет, ты расскажи лучше, как ты был маленьким… — уже сонно проговорил мальчик.
— Ну, это, брат, музыка длинная… — сказал дед. — Ну, вот, на закуску расскажу я тебе, пожалуй, про большого петуха…
— Живого?
— А вот слушай… — сказал дед и начал: — Было это в Москве, когда мне было лет пять-шесть, кажется, — такой же вот, как и ты, фрукт был… А Москва, братец ты мой, это большущий город, все дома, дома, дома — конца-краю нет, а между домами, по каменным улицам с утра и до утра бегают люди, бегают и бегают, без конца, без устали…
— Зачем? — спросил Ваня.
— Это, брат, и сами они не всегда знают, но бегают… — отвечал старик. — Да… И не далеко от того дома, в котором я жил, была крошечная, поганая лавчонка в одно окно. Там продавался и линючий ситец, и тетради, и пуговицы всякие, и дешевые гармошки, и булавки, и переводные картинки, и наперстки, — прямо всего и не перечтешь… И часто, гуляя с моей няней, Александрой Федоровной, проходил я мимо этого окна и подолгу, остановившись, рассматривал выставленные там сокровища. Но всего прекраснее казался мне выставленный там картонный, из папье-маше, петух. Он был очень велик, необыкновенно ярко раскрашен и имел вид гордый и независимый. Иметь такого петуха казалось мне верхом человеческого счастья, но по справкам, увы, оказалось, что стоит он тридцать пять копеек, сумма по тем временам огромная, которою мы с няней не располагали. И я ходил к моему петуху на поклонение каждый день и одна только забота мучила меня: как бы кто его не купил. И вот раз, действительно, как раз накануне моих именин, петух мой с окна исчез. Удар для меня был, братец ты мой, страшный, вся жизнь померкла для меня и даже завтрашние именины не радовали меня. Д-да… Но когда я на утро проснулся, смотрю и не верю своим глазам: у кроватки моей, на столике, стоит мой желанный петух, красный, синий, желтый, зеленый, всякий, гордый и независимый, как всегда. Я забыл все и бросился к нему. Он был совсем не тяжел, от него восхитительно пахло клеевой краской и, если прижать нижнюю дощечку, на которой он стоял, он кричал, коротко, совсем не по-петушиному, но внушительно басисто. Я не помню, как я умылся, оделся, как шел в церковь к обедне. Я был полон мечтою о своем сокровище, которое ожидало меня дома, и за обедней я, конечно, молился своей маленькой душой не столько Богу, сколько моему прекрасному петуху. Я торопливо вернулся домой, рассеянно выслушал скучные поздравления близких и понесся к своему петуху. Меня чрезвычайно интересовало происхождение его баса. Я поковырял пальцем, где нужно, поковырял няниными ножницами, а потом отодрал нижнюю дощечку: там оказался какой-то дрянной пищик. Я и его расковырял. И в нем ничего такого особенного не было. Это меня озадачило. Очевидно, тайна этого осанистого баса и вообще всего этого очарования была внутри самого петуха, — может быть, в этой молодецкой, сизо-багрово-пламенной груди. Я продолжал свое исследование дальше, — в груди оказалась пустота. Это меня еще более поразило и я разломил петуха на-двое — в гордом, блистательном петухе ничего не было! Он весь был пустой…