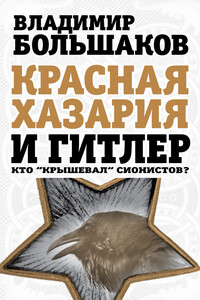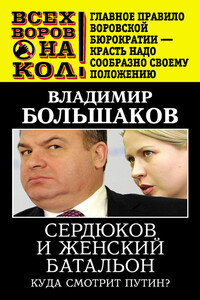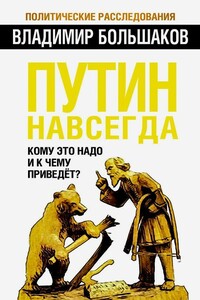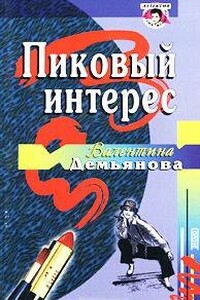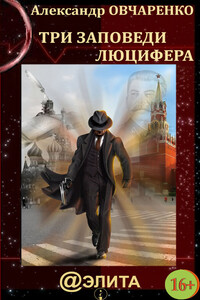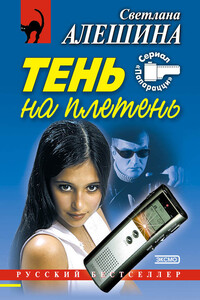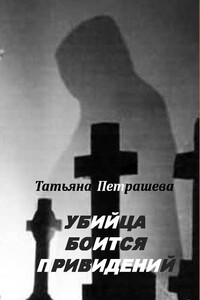Призраки русского замка | страница 109
В буйные девяностые эшелоны «РУСАМКО» на границах не контролировали. Со временем у генералов-мафиози появились свои зарубежные представительства, где на Рубакина и К>о работали даже бывшие работники Главного разведуправления Советской армии (ГРУ СА), некогда самые безупречные и самые неподкупные. Люди Янычара были виртуозами воровства. Они умудрялись получать из «ближнего зарубежья» деньги за поставки оружия, которого вообще не было. Списывали новейший вертолет как вроде бы рухнувший с неба «во время учебных полетов».
Составлялся акт – все чин по чину. А вертолет никуда не падал и стоял в ангаре целехонький. Затем оформлялась «поставка»: его просто выкатывали из ангара. Но все это уже оформлялось как «российские поставки». У республики денег на вертолет не было, и она платила то медью, то первосортным кабелем, то продовольствием, – всем, что было в ходу. Продовольствие шло по бешеным ценам в магазины «военторга», и там военных грабили снова – деньги, полученные от агентов Рубакина, у них отнимали просто за счет завышения цен и по разбойничьему «кредиту». Миллионы долларов приносил и «бартер» в виде цветных металлов, горючего, пиломатериалов, станков, оптики. «РУСАМКО» расплачивалась с заводом-производителем или с головным министерством в России за этот «бартер» рублями, а все ценное продавало на Запад за доллары, получая до тысячи процентов чистой прибыли, но уже в полновесной валюте. На эти деньги Янычар закупал за границей свои особняки и гостиницы, яхты и замки, а через «РУСАМКО» – оружие, которое шло боевикам «Аль-Каиды» в Чечне, Дагестане, в Средней Азии, Сирии и Афганистане, и «Хезболле» в Ливане и Палестинской автономии. Знал ли Рубакин, что действительным «конечным пользователем» российского оружия была «Аль-Каида», или нет, – в досье шефа ДСТ не было точных сведений. Но объективно он работал с Янычаром в паре и потому уже был опасен. Готье понял и почему шеф не выпустил его из своего кабинета с этим досье – в числе подельников Янычара во Франции оказались слишком крупные фигуры, в том числе прямой родственник президента. «Все, что накопаете, мне, – сказал шеф ему на прощанье. – И никакой огласки».
4. Заботы русского консула
Петр Виссарионович Серебряков всегда говорил, что он человек вне политики. В коммунистические времена за это утверждение и любовь к тем русским философам-западникам, которых во всех советских учебниках звали «реакционерами» и «пособниками», он стал «мертво невыездным». Получив после Института международных отношений распределение в Консульское управление МИД СССР, он так бы и ушел оттуда на пенсию, не повидав ни одного советского консульства за рубежом, если бы не перестройка. Тут Серебряков стал знаменитостью. Он оказался единственным беспартийным консулом во всем Консульском управлении. С ним вдруг стали все здороваться и спрашивать у него совета. Его даже иногда показывали иностранным дипломатам как представителя оппозиции. Он упорно от этого открещивался и говорил, что он вне политики. Но на это ему отвечали, что теперь идет демократизация и он уже может не скрывать своих взглядов. Его даже повысили в должности, но на работу за границу по-прежнему не отправляли. И только когда Советский Союз окончательно развалился и МИД СССР стал МИДом Российской Федерации, его вызвали в кадры и спросили, какой он учил язык в ИМО. Он сказал: «Французский».