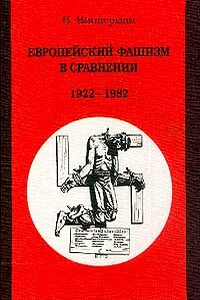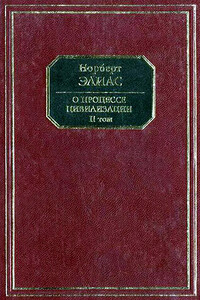Придворное общество | страница 8
Систематическое же изучение проблем того типа, о котором шла речь в вышеизложенных замечаниях, — проблем социальной функции короля, проблем социальной структуры двора во французском обществе семнадцатого и восемнадцатого веков — направлено не на «уникальное», на которое только и ориентируется до сих пор вся историография. Отказ историка от систематического исследования общественных позиций — например, позиции короля, — а тем самым, значит, и от исследования тех стратегий и возможностей выбора, которые диктовала каждому конкретному королю его позиция, приводит к своеобразному усечению и ограничению исторической перспективы. То, что называют историей, зачастую выглядит при этом как скопление абсолютно не связанных между собою отдельных поступков отдельных людей. Рассмотрение человеческих взаимосвязей и зависимостей, а также долговременных, часто повторяющихся структур и процессов, к которым относятся такие понятия, как «государства», или «сословия», или «феодальные», «придворные» и «индустриальные» общества, пока еще обычно находится за пределами или, во всяком случае, на периферии сферы традиционных исторических исследований. Поэтому отдельным и уникальным данным, которые ставят в центр внимания такие исследования, недостает научно разработанной и верифицируемой системы координат. Взаимная связь отдельных феноменов остается в значительной степени делом произвольной интерпретации, а довольно часто — умозрительных построений. Поэтому-то в исторической науке, как понимают ее сегодня, и нет настоящей преемственности исследований: идеи относительно взаимосвязи событий сменяют друг друга, а в долгосрочной перспективе каждая из них представляется столь же верной и столь же недоказуемой, как и любая другая. Еще Ранке заметил: «Историю всегда переписывают заново… Каждое время и его основное направление присваивает ее себе и переносит на нее свои мысли. Соответственно раздают хвалу и хулу. Все это так и плетется далее, пока вовсе не перестанут узнавать сам предмет. Тогда не поможет ничто, кроме возвращения к первоначальному сообщению. Но стали бы вообще изучать это сообщение без импульса от современности? …Возможна ли совершенно истинная история?»[2]
Слово «история» все время используют как для обозначения того, о чем пишут, так и самого процесса написания. Это создает немалую путаницу. На первый взгляд «история» может показаться ясным и беспроблемным понятием. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что за простым, казалось бы, словом скрывается множество нерешенных проблем. То, о чем пишут, — объект исследования — не является ни истинным, ни ложным; только то, что об этом пишут, — результат исследования — может оказаться истинным или ложным. Вопрос в том, что, собственно, являет собой объект историографии. Что такое есть тот «предмет», о котором Ранке говорит, что за всеми похвалами и порицаниями историографов его часто уже невозможно распознать?