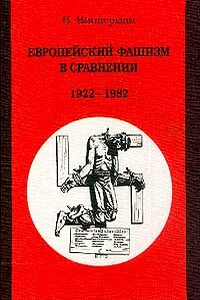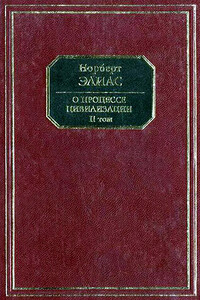Придворное общество | страница 30
Такие соображения понятны, пока мы верим, что научные проблемы возможно ставить и разрешать на основе метафизических или политических предубеждений. Но если так поступать, то проблемы остаются в действительности неразрешимыми. Решение принято прежде, чем началось исследование. Но если мы хотим идти к решению этих проблем не путем предвзятых догматических решений, а путем двоякого исследования — на теоретическом и на эмпирическом уровне, при теснейшем контакте между ними, — то вопрос «свободы» и «детерминированности» встает перед нами в ином виде.
Сказанное до сих пор в данном введении, равно как и каждое в отдельности из нижеследующих эмпирических исследований показывает, как именно стоит этот вопрос. Даже человек, облеченной такой полнотой власти, как Людовик XIV, не был свободен в каком-либо абсолютном смысле слова. Также точно не был он и «абсолютно детерминирован». Если мы опираемся на эмпирические данности, то становится неприемлемой формулировка проблемы в терминах противоположности абсолютной свободы и абсолютной детерминированности (а благодаря употреблению таких понятий эта проблема влияет на обсуждение отношения исторической науки и социологии). Лишь значительно более дифференцированные теоретические модели позволят нам поставить проблему так, чтобы суметь лучше постичь подтверждаемые свидетельствами фактические взаимосвязи.
Как уже выяснилось, в фокусе проблемы, с которой мы в таком случае сталкиваемся, находится переплетение зависимостей, в пределах которого индивид обретает некоторую сферу свободы для собственных решений и которое одновременно полагает пределы этой сфере. Категориальное прояснение подобных предметов представляет трудности прежде всего потому, что многие формы нашей мысли и способы образования научных понятий приноровлены лишь к тому, чтобы выражать взаимосвязи между неодушевленными физическими феноменами. Если мы ставим проблему взаимозависимостей между людьми в традиционной форме, как проблему абсолютной детерминированности и абсолютной недетерминированности, или «свободы», то мы, в сущности, все еще остаемся на том уровне дискуссии, на котором друг другу противостоят способы мышления, соответствующие наблюдению простых физических процессов, и изоморфные им метафизические способы мышления. Представители одной стороны трактуют тогда человека просто как физическое тело, подобное бильярдному шару, и утверждают, что его поведение причинно детерминировано совершенно так же, как детерминировано поведение такого шара, когда столкновение с другим шаром приводит его в движение. Представители другой стороны, в сущности, лишь повторяют то же самое с частицей