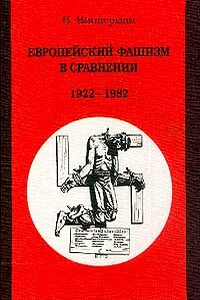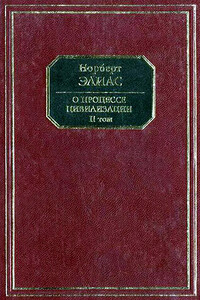Придворное общество | страница 26
Предположение, будто слой уникальных отдельных событий и, в особенности, уникальные поступки, решения, черты характера отдельных индивидов составляют важнейший предмет исследования историка, весьма односторонне. Это обнаруживается уже хотя бы в том, что сами историки в практике своей работы практически никогда последовательно не ограничиваются описанием только этого слоя. При отборе индивидуальных событий они не могут отказаться от системы отсчета, задаваемой понятиями, которые относятся к медленнее изменяющемуся общественному слою исторического процесса. Такие понятия могут быть относительно адекватны действительным фактам — это бывает, например, когда говорят о развитии хозяйства, о движении народонаселения, о правительстве, чиновничестве и других государственных учреждениях или же об общественных телах, таких как Германия или Франция. Но могут они быть и скорее умозрительными и невнятными — например, в случаях, когда говорят о «духе эпохи Гете», об «окружении императора», о «социальном фоне национал-социализма» или об «общественной среде королевского двора». Роль и структура социальных феноменов остаются обычно непроясненными в историографии, потому что остается непроясненным само отношение индивидуума и общества. Его же прояснению, в свою очередь, мешают — а зачастую и вовсе препятствуют — априорные оценки и идеалы, которые без проверки, как самоочевидные, направляют перо исследователя и его взгляд при отборе и оценке материала.
Поэтому во многих, хотя давно уже не во всех, исторических работах общественные феномены, фигурации, состоящие из многих отдельных индивидов, часто трактуются лишь как своего рода декорации, среди которых выступают кажущиеся обособленными индивиды — подлинные творцы исторических событий. Именно эта форма исторического восприятия — акцент на уникальные события и индивидуальные исторические фигуры как на первый план, отчетливо прорисованный по сравнению с социальными феноменами как фоном, структура которого видится относительно нечетко, — особенно мешает прояснению соотношения между историографией и социологией. Задача социологии состоит в том, чтобы вывести на первый план именно то, что в прежней историографии представляется лишь как неструктурированный фон, и сделать это доступным научному исследованию как четко структурированную взаимосвязь индивидов и их действий. При такой перемене перспективы отдельные люди не утрачивают, как то иногда утверждается, своего характера и своей ценности как отдельные люди. Но они более не представляются людьми обособленными, каждый из которых существует поначалу независимо от другого, совершенно сам по себе. Они не рассматриваются более как совершенно закрытые и запечатанные системы, каждая из которых, как абсолютное начало, скрывает в себе окончательное объяснение того или иного общественно-исторического события. В фигурационном же анализе отдельные индивиды в большей степени предстают такими, какими их можно наблюдать: открытыми, взаимно обращенными друг к другу самобытными системами, связанными между собою взаимозависимостями самого различного рода и потому образующими друг с другом специфические фигурации. Даже величайшие (с точки зрения определенных общественных ценностных установок) люди, даже могущественнейшие люди занимают свою позицию — звено в этих цепочках зависимости. И применительно к ним мы тоже не сможем понять ни этой их позиции, ни того, как они ее достигли, ни того, как они совершали свои труды и деяния в заданных ею рамках, если не подвергнем тщательному научному анализу саму эту позицию, а будем вместо этого трактовать ее как некий нерасчлененный фон. Из-за того, что фигурации зачастую меняются гораздо медленнее, чем конкретные индивиды, их составляющие, так что молодые люди могут занять те же позиции, которые оставили старшие, — короче говоря, из-за того, что одни и те же или подобные фигурации довольно часто могут составляться различными индивидами в течение продолжительного времени, кажется, будто эти фигурации обладают своего рода «бытием» помимо самих индивидов. С этим обманом зрения связано ошибочное употребление понятий «общества» и «индивида», которое представляет дело так, как будто речь идет о двух отдельных предметах с различной субстанцией. Но если мы более тщательно будем согласовывать наши мыслительные модели с тем, что можем наблюдать в действительности, то мы обнаружим, что существо дела достаточно просто и может быть недвусмысленно выражено в понятиях: отдельные индивиды, которые здесь и сейчас составляют друг с другом специфическую общественную фигурацию, могут исчезнуть и уступить место другим; но как бы они ни сменялись, все равно общество — сама фигурация — всегда будет составляться индивидами. Фигурации обладают относительной независимостью от определенных отдельно взятых индивидов, но не от индивидов вообще.