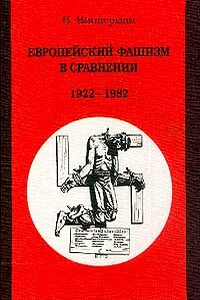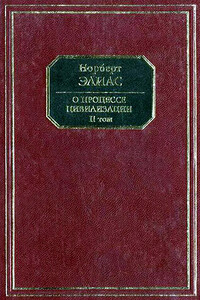Придворное общество | страница 22
Но исследование не приведет к удовлетворительному результату, если мы остановимся на этом. Без систематического исследования позиции короля как таковой, как одной из позиций, основополагающих для фигурации двора и для французского общества, невозможно понять отношения между собственной личностью и общественной позицией короля. Первая развивалась в рамках второй, а та, в свою очередь, тоже изменялась, поскольку развивалась — в более узком смысле в рамках конструкции придворной элиты, в более широком — в рамках всего французского общества. Здесь нет нужды детально прослеживать взаимосвязи между личным развитием короля и общественным развитием королевской позиции, но эта двоякая модель способствует большей ясности понятий, что важно. Понятия «индивид» и «общество» часто употребляют так, как будто говорят о двух различных неподвижных субстанциях. При таком употреблении слов легко может возникнуть впечатление, будто бы то, на что они указывают, суть не просто различные, но абсолютно отдельно друг от друга существующие объекты. В действительности же слова эти указывают на процессы. Это процессы, которые можно различить, но разделить нельзя. Личное развитие короля и развитие его позиции идут рука об руку. Поскольку это последнее обладает специфической эластичностью, то его до известной степени можно направлять в ту или иную сторону в соответствии с личным развитием человека, занимающего эту позицию. Но в силу взаимозависимости ее с другим позициями в обществе, наряду с эластичностью каждая общественная позиция — даже позиция абсолютного монарха — обладает внутренней силой, огромной по сравнению с индивидуальной силой занимающего ее лица. Сфера его свободы довольно жестко ограничена структурой его позиции, и эти границы, подобно стальной пружине, становятся тем ощутимее, чем более король своим индивидуальным поведением на них давит и испытывает эластичность своей общественной позиции. Таким образом, личное развитие обладателя позиции и развитие самой позиции, отражающее развитие всего общества, влияют друг на друга.
Уже в этом месте мы видим, насколько неполна и непрояснена гипотеза теоретиков науки об уникальности и неповторимости предмета истории. Если рассматривать его как личность, Людовик XIV был уникален и неповторим. Но «чистая личность», «индивид в себе» есть продукт воображения философов, не менее искусственный, чем «вещь в себе». Развитие общественных позиций, которые проходит индивид в течение своей жизни, не является уникальным и неповторимым в том же смысле слова, что и развитие самого этого индивида. Позиция короля развивалась в ином темпе, чем развивался человек, ее занимавший; после ухода одного обладателя она могла сохраниться и перейти к другому. Поэтому в сравнении с уникальностью и неповторимостью отдельного индивида позиция имела характер повторяющегося феномена или, во всяком случае, уникальность ее была иного рода. Поэтому история лишь до тех пор может выступать в традиционном смысле как наука, занимающаяся только уникальными и индивидуальными феноменами, покуда она не включает в сферу своих исследований социологические проблемы, подобные этой. Как видим, даже определение меры уникальности короля остается ненадежным и фрагментарным без исследования королевской позиции, которая уже не будет индивидуальной и уникальной в том же смысле этих слов.