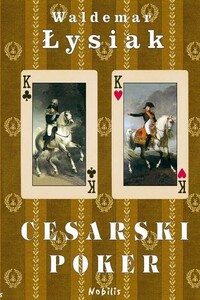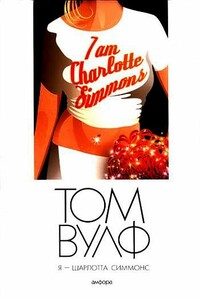MW-14-15-16 | страница 8
сына тряпичника, я знаю что еще? А он, сразу же после гешефта с Барнсом, на переломе 1922 - 1923 годов, нарисовал молоденького булочника-кондитера, по-своему, с широко расставленными коленями и локтями, приклеенными к рамкам картины. Это булочник-король! Он сидит, развалившись, на высоком стуле как монарх на троне, ожидая, пока сделают пропагандистскую фотографию. Он сидит в белом халате, с широкими плечами-эполетами, заставляющем вспомнить о диктаторских мундирах, в белом колпаке, формой своей напоминающем корону и шутовской колпак одновременно, с багровой тряпочкой в руках, так что может показаться, будто у него уже вскрыты внутренности, и теперь он мнет в пальцах собственное уставшее сердце. На этом автопортрете он король над королями, негус над негусами, царь над царями, пекарь над пекарями, в одуряющем запахе чтобы они сдохли von Shande, не допустив к благоухающему хлебом телу Рифки!
Нет, я не ошибся - это автопортрет. Если же его биографы, не знающие истории с Рифкой, не заметили этого - тем хуже для них. Дело тут даже не в датах, которые вписываются как влитые, но достаточно посмотреть на булочника-императора и на портрет Сутина, сделанный Модильяни. И сравнить! То же самое удлиненное лицо, те же самые задумчивые глаза, идентичная форма носа, сплетенные в том же месте ладони. Единственная истинная разница - это широко раскрытые ноздри молодого пекаря. Ни на каком другом портрете Сутин их уже не раздувал, только здесь, потому что король вдыхает запах теплого, пульсирующего хлеба.
С Амадео Модильяни, старшим на семь лет евреем, что приехал в Париж из итальянской провинции, как сам он из белорусско-литовской, он познакомился в 1915 году в Сите Фальжьер. В течение пяти (неполных пяти) следующих лет они были близкими друзьями, хотя (а может именно потому) между ними случались жаркие стычки. Их картины были будто огонь и вода. С одной стороны разбушевавшийся ураган, в котором все горит, пылает кровью и безобразием, где женщины отвратительны, и царствует атавистичный отголосок степных погромов и воспоминаний о грязном базарчике, забитом толпой евреев. С другой - спокойные композиции, виртуозный рисунок, полнейшая традиция тосканского искусства XV века, тонкости сиенской живописи и щепотка маньеристичной грации Боттичелли, в особенности в фигурах обнаженных женщин - сонных, как бы загипнотизированных самим Амадео, пребывающих в ностальгичном ожидании, с атласно мягенькими телами; готовые взлететь, таинственные своей анонимностью нимфы, настолько притягательные, что весь холст хотелось бы исцеловывать от рамы до рамы; а в лицах одетых женщин меланхоличная прелесть и странное подобие с флорентийскими Мадоннами, такое отличное от Рифки.