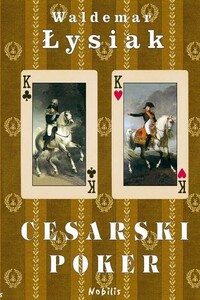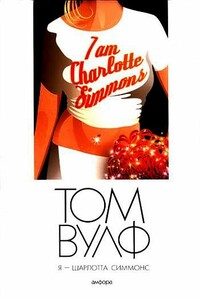MW-14-15-16 | страница 7
Сильнее всего этот смрад ощушается в его автопортрете! В его "Спящей женщине" нет ничего от одалисок Энгра или всей той идиллической орды живописно уложенных самими художниками самочек - розовеньких, в рюшиках, только что завитых, соблазняющих свежестью; она вся вспотела, растрепалась, у нее приоткрыт рот, как обычно и случается, только лишь с прибавлением взрывной экспрессии Сутина. Его обнаженная женщина ("Нагота женщины") настолько пугающе неаппетитна, что если бы она была Евой, мир бы не был заполонен видом homo sapiens. То же самое и с "Женщиной в голубом платье", с "Женщиной на голубом фоне" и другими, пол которых выдают лишь названия работ. Его "Материнство" ужасно мрачно, а лица ребенка и матери искажены тяготами бытия. Из животов написанных им перепелок, кружащихся в воздухе будто обезумевшие "Конкорды" с открытыми для криков клювами, выплескиваются кишки; вся серия его распотрошенных быков и суровые туши иного зверья плавают в кровавой жиже, проявляя - впервые настолько драматично во всей истории искусств - все злобно-враждебное естество мяса и костей. Патология? Ну конечно же, естественно, гений либо патологичен, либо его вообще нет.
Патология, сплетенная из одержимости. Даже те краткие периоды в его творчестве, когда ярость пригасала, когда его живопись становилось менее драматичной, все равно были полны тем, выдающих какие-то неожиданные наваждения - как по-иному объяснить серию "Министрантов", вежливеньких, спокойных мальчуганов в белом и фиолетовом, если не маниакальным увлечением экзотической для него литургией римско-католической церкви?
А величайшей его манией была Рифка, дочь boulanger. Ее он носил в себе вплоть до самого успеха, до 1922 года, до ливня ersten Geld от Барнса. До тех пор он не осмеливался выбросить этого на холст, единственно лишь, помня куриные глазки Рифкиной мамаши, подвесил курицу (за шею, как вешают осужденного) в каком-то гадком интерьере с суровыми кирпичными стенами и попросил себя сфотографировать рядом с нею Рожеру Виолле в позе бомжа, с глуповато-циничной усмешкой, с сигаретой в одной лапе, а вторую сунув в карман затасканных штанов. Теперь, в 1922, он уже мог поделиться этим со всем миром.
И как же он это сделал! Иной на его месте нарисовал бы Рифку, плачущую рядом с эмалированными Kubeln, себя и ее на фоне белоснежных firankes, ее глаза, в которых тоска по нему, возможно даже те пресловутые шолковыйе, настоящийе Strumpfe