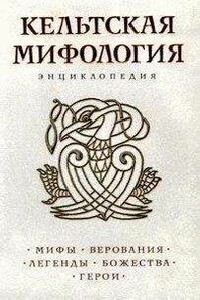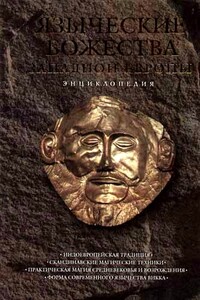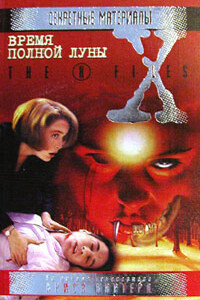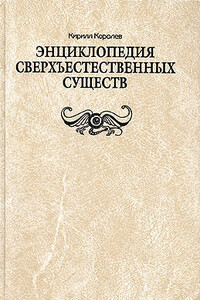«Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези | страница 14
В-третьих — и это главное, — ответы на вопросы анкеты 2014 г. вкупе с анализом самих художественных текстов, позволяют заключить, что авторы славянской фэнтези, декларируя на словах приверженность изучению фольклорных и фольклористических источников по теме, в действительности не столько следуют традиции, подкрепленной научным авторитетом, сколько эту традицию изобретают — в том смысле, который вкладывал в термин «изобретение традиции» Э. Хобсбаум: «…процесс формализации и ритуализации», связь которого «с историческим прошлым по большей части фиктивная» [Хобсбаум 2000, с. 48]. К этому побуждают, с одной стороны, сами принципы функционирования культурного производства в условиях массовой культуры, когда предложение диктуется спросом, а границы этого спроса формируются уровнем коллективного знания (и коллективной потребности в конкретном знании) — если, упрощая, читателю достаточно присутствия в тексте таких персонажей, как Кощей, баба-яга или древнерусский витязь, каковы бы ни были их функции, чтобы отнести то или иное произведение к славянскому фэнтези, у писателя просто нет необходимости в сколько-нибудь тщательном изучении первоисточников и соблюдении этнографической достоверности; с другой стороны, писатели все же чувствуют себя в некоторой степени обязанными выполнять предварительные изыскания, подбирая фактический материал для художественных текстов[20], — и при этом не проводят различия между научными и паранаучными источниками, равно свободно используя те и другие, если того требуют творческие задачи конструирования литературного мира. В результате читатель получает культурный продукт, художественно пересоздающий прошлое национальной культуры; а следствием «формализации и ритуализации» (или «банализации», в терминологии П. Бурдье) является возникновение «изобретенной традиции», доминирующей сегодня в славянской фэнтези.