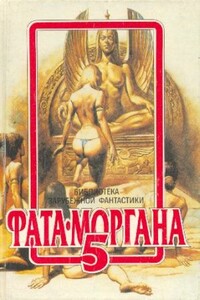Exegi monumentum | страница 61
Что до Яши, то он стремился жить всего прежде возвышенными интересами духа. И тут...
Материя всегда завидует духу, сознавая свое несовершенство в сопоставлении с ним: дух нетлен, и в этом смысле он неизмеримо совершенней материи; а стремление материи увековечить себя в пирамиде, в памятнике — плод поползновений ее достичь бессмертия, лишь духу доступного. Зарабатывал Боря много. Много он тратил, но много копил. Копил, копил, а до власти секретаря райкома было ему далеко, как до звезд. Зато начинала манить духовность. Та духовность, доступ к которой, как это неожиданно выявилось, оказался не больно уж труден: высоты духа, а вместе с ними и блеск власти над миром подлунным маячили где- то рядом; и Яша — Боря узнал об этом с некоторой завистью — уже приобщился к этой духовности: переходы из материального плана в ментальный, из ментального плана в астрал, беснование вокруг нас злобных духов, инкарнации, степени посвящения, космическая подпитка...
Тут-то и явился гуру Вонави. Состоялось посвящение Яши в ранг фараона, а вернее, открытие в нем фараона. Обратившись в Тутанхамона, Яша стал взирать на Борю совсем уж свысока. Яша ввел своего потерпевшего поражение друга в дом Ивановых, а дальше — известное дело: в Боре всплыл Сен-Жермен.
И сидят они теперь в пивном зале, перед каждым — по кружке.
— И отправишься в восемнадцатый век? — Яша край кружки солью присыпал.
Боря пожимает плечами, пену сдувает:
— А как же! Ты мне только подскажи, восемнадцатый век, это какие события? Пугачев?
— Подковаться надо тебе. Ты, пожалуйста, не обижайся, только я тебе пару-тройку хороших книжек подброшу.
— Не надо мне книжек.
— А деньги? Продается... 17 лет... на театре балеты... Ты поинтересовался, почем? Да и с чем ты в восемнадцатый век трансплантируешься, с Лукичом нашим, на бумажках оттиснутым?
— У меня кресты будут, кольца, все рыжики. Пробы самой высокой. Вещий голос учителю был: пятьсот просят.
— А что, Боря, как застукают тебя? Догадаются?
— Нет, не догадаются. Понимаешь, раз уж я их современник, я не проврусь, хоть бы ни словечка не мог сказать, как тогда говорили.
— А что к Магу придется идти, в ножки кланяться, тебе не противно, что он год жизни у тебя сострижет, не страшно?
— Что значит страшно или не страшно? Да для учителя я все сделаю, все!
— Ладно, Боря. Закругляемся, что ли?
Идут, обнявшись, вдоль Чистых прудов, по бульвару, друг дружку поддерживают.
Маг был болен.
Он покоился на высоком ложе, синим ватным одеялом прикрылся. Ложе Мага возвышалось в некоем как бы алькове, в глубине здоровенной комнаты с дубовым старинным паркетом. Окно — огромное, мутное, годами не мытое — выходило во двор, который со всех сторон обступали дома-слоны, неуклюжие, серые, но все-таки жилые дома, дома, а не обезличенная жилплощадь: строили их добротно, в начале столетия.