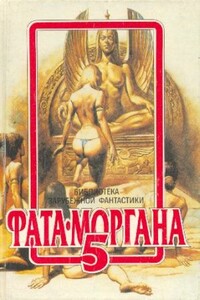Exegi monumentum | страница 50
Я почтительно кланяюсь Магу.
— Вера Францевна у себя? — спрашивает он меня, задыхаясь: неможется ему, астма, что ли.
— У себя,— говорю и киваю куда-то наверх.— Вера Францевна на Луне.
И Маг припускает вверх, а я шествую дальше.
Презанятные вещи происходят у нас в УМЭ, пре-за-нят-ны-е!
Я твержу и твержу себе: я пишу не роман!
Не ро-ман я пи-шу!
Не роман, не роман, а за-пис-ки, хронограмму моей жизни в определенные годы, любопытные штрихи из быта и маленькие тайны, которые я хотел бы предать огласке. Сделать это почитаю я долгом своим, долгом честного человека: я о чем-то современникам должен поведать, о чем-то предупредить их, хотя русская социальная мысль и литература уже двести лет о чем-нибудь соотечественников предупреждают, да все как-то без толку.
Я пишу не роман — хронограмму. Роман зиждется на вымысле, а в записках все достоверно должно быть, так, как было; разрешается, может быть, только имена и фамилии изменять. Жизнь в записках фиксируется, всего лишь фик-си- ру-ет-ся; а отсюда — позволительная ненапряженность сюжета, размазанность рассуждений, чересполосица времени. Я пишу не роман, но роман как бы преследует меня, тянется к моим безобидным запискам, проникает в них, ввинчивается, внедряется.
Я пишу не роман, но попал-то я в типично романную ситуацию, в ситуацию, характерную именно для героя романа: я должен принять решение, которое, может статься, со стороны покажется забавным, уморительным даже; для меня же оно невероятно серьезно. Каким оно будет? Не знаю; и мой труд — акт отчаяния, признания неготовности к ответу на вопрос, предо мною внезапно возникший. Бьюсь я над своей хронограммой, а меня затягивает в роман, и сбиваюсь я на него, поглядывая на себя и извне, и немножечко изнутри, ощущая себя и создателем, и невольным героем поневоле романизированных записок.
Приблизительно тогда, когда я в УМЭ рассыпался в любезностях перед Верою Францевной, в двухкомнатной квартире Валерия Никитича Вонави-Иванова снова сошлись коронованные особы и прочие исторические деятели всевозможных государств и времен. На сей раз, правда, их было не так уж и много: Боря, новоузнанный граф Сен-Жермен; дюжий малый, блондин-губошлеп с остановившимся взглядом, в коем гений родоначальника русских йогов, Великий Учитель школы Ста сорока четырех арканов прозрел римского императора Гая Юлия Цезаря, да подобранная на Казанском вокзале девушка, о которой тотчас же стало известно: она ангел, душа неискушенная, в нравах и в делах нашего пестрого и грубоватого мира неопытная, в первый раз воплотилась она в материальное тело. Все они сошлись поздравить Веру Ивановну с именинами; именины же у нее на старинный манер с днем рождения совпадали; и по этому случаю в кухне был сервирован чай из собранных наспех разнокалиберных чашек, на столе возвышалась початая поллитровка, лежали нарезанное толстыми ломтями сало, посиневшая колбаса, огурцы.