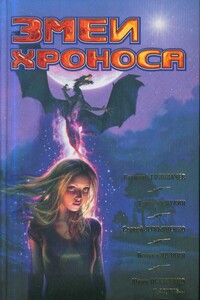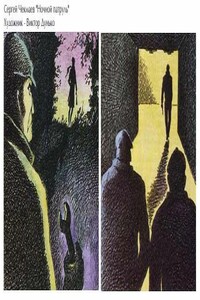Exegi monumentum | страница 106
Словом, лабухам низкие пьедесталы не сулят ничего хорошего; но художественный совет Хлебогорска предложил ваятелю поставить Лукича и его собеседников пониже. В остальном же...
Изображен на монументе, натурально, Лукич: большой палец левой руки прославленным жестом заткнут в пройму жилета, а правая рука, десница, застыла, как бы протягивая что-то собеседникам; она словно яблоко держит, а на деле-то в ней пустота. Рабочий, в косоворотке, в сапогах до колен, оперся на молот с длиннющей ручкой. Крестьянину, говорят, намеревались дать в руки вилы, но потом их заменили косой, а вилы забраковали по той причине, что они напоминали о некоем бунте, а в лучшем случае — о горьком, саркастическом смехе: «Поддеть на вилы» — значит язвительно осмеять собеседника; «вилы в бок» — метафора убиения смехом. А тут — Лу-кич! Вилы, стало быть, заменили косой; но когда монумент уже обсудили и под плакуче-призывные звуки «Интернационала» водрузили на площади, известный всему городу кляузник, отставной полковник, написал в Хлебогорский райком обличительное письмо: по его наблюдениям, изваяние крестьянина, если взглянуть на него в определенном ракурсе, недвусмысленно напоминало о сказочной Смерти; к письму была приложена фотография, едва взглянув на которую, секретарь райкома по идеологии, как вспоминают, взвизгнул и, трижды перекрестившись, помчался на площадь. А там, вставши так, как подсказывала ему фотография, он увидел, что старуха Смерть и в самом деле нахально замахивается на бессмертного Лукича. Тою же ночью памятник сняли с пьедестала и вывезли в некое спецхранилище, а попросту говоря, в гараж, воздвигнутый во дворе райкома.
Но ломать изваяние не стали. Оно некоторое время пылилось в спецхране — небольшой городок Хлебогорск стал гордиться тем, что у него есть спецхран. Местного Фидия, что называется, ставили на ковер, тыкали ему под нос фотографию, на него орали, перемежая ор бесконечными упоминаниями о том, что нынче не те времена, а не то сгорел бы Фидий так, что и пепла не отыскалось бы. Наконец ему вынесли выговор за какое-то нарушение финансовой дисциплины, а секретарь-идеолог в частной беседе по-приятельски посоветовал ему как можно быстрее уматывать из района. Про монумент позабыли. Года через два, когда лишенные гаража автомобили стали ржаветь, скульптурную группу взялась закончить жена местного ветеринара, учительница младших классов. Заполнив ряд необходимых анкет и пройдя у уполномоченного проверку на доступ к особо важным гостайнам, она просто-напросто отпилила крестьянину руку с косой, объяснив, что крестьянин мог быть искалечен на первой мировой империалистической войне и что Ленин несет ему мир. Объявление приняли и на цоколе написали: «...с крестьянином, искалеченным на первой мировой войне, и с рабочим». Без помпы, втихаря, темною южной ночью группу однажды выволокли из гаража и трех собеседников поочередно водрузили на пьедестал. Памятник привлек к себе сердца хлебогорцев и стал местной достопримечательностью. Как все южане, звук «г» хлебогорцы произносили приглушенно, и они говорили, что памятник в их городе установлен «орихинальный». ПЭ текла на крестьянина обильнее, чем на рабочего и на Лукича, и худо было одно: фигура оказалась не приспособленной для подмены лабухом, для стилизации, ибо одноруких лабухов в распоряжении КГБ припасено не было. «Девчонка одна есть,— сокрушался уполномоченный КГБ по области,— есть сучка одна, ее многие знают, спекулянтка, б... каких мало, а Венеру Милосскую лабает просто-таки ге-ни-аль-но; как заступает она на дежурстве в горпарке, так вокруг изваяния толпа собирается, мужики останавливаются, глазеют, исходит от нее чего-то такое, особенное...— И, почмокав суховатыми сиреневыми губами, стареющий чекист печально качал сединами.— А мужчин одноруких мы в штате не держим, до сих пор не требовалось, был бы хотя б один, уж мы бы...»