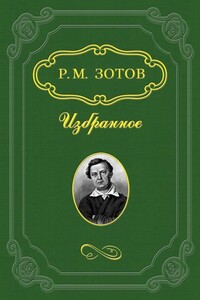Австриец | страница 31
Глава 4
Мой отец подобрал свой вещевой мешок с пола и ушел, не сказав ни слова. Может, это было и к лучшему. Он не любил слезливых прощаний, да к тому же он уже сказал свои напутствия прошлой ночью, когда никто из нас не мог уснуть. Мы просидели за кухонным столом почти до рассвета; мама все пыталась притвориться, что не плачет, а отец все хмурился над своей чашкой с кофе.
Роланд уснул ближе к полуночи на отцовских руках и, несмотря на протесты матери, он сам отнес и уложил его в кроватку. Вернеру и мне позволено было остаться с ними на кухне, но, по правде говоря, я даже завидовал немного моему самому младшему брату, потому как он был еще слишком мал, чтобы понимать, что эта ночь вполне могла быть последней, когда мы видели нашего отца живым.
После того, как сербские националисты совершили покушение на нашего австрийского герцога Франца Фердинанда и его жену, расстреляв их обоих в открытой машине, наше правительство объявило войну Сербии. Отец вообще-то утверждал, что герцог был всего лишь удобным поводом для нас, чтобы забрать наконец-то назад земли, на которые у правительства давно глаз горел. К тому же, Германская Империя пообещала свою поддержку, согласно ранее заключенному между нашими странами пакту. Мне всего через два месяца должно было исполниться одиннадцать, поэтому было вполне понятно, почему вся эта политика так мало меня интересовала. Только вот как я мог знать, что это все коснется меня самым прямым образом, когда моего отца призовут в армию?
— Эрнст? — Отец тронул кончиком пальца мой нос и улыбнулся. Всего несколько часов назад он принял ванную, побрился и надел свою новую униформу. Её особый, шерстяной, ни с чем не сравнимый запах все еще жив в моей памяти, а тогда я просто наблюдал, как он полирует до блеска свои сапоги, разглаживает китель и зачесывает непослушную, темную гриву назад. После всех приготовлений он сел рядом со мной за стол и попытался отвлечь меня от моих мрачных мыслей старой шуткой. — Что нос повесил?
Я выдавил из себя смешок только чтобы не обидеть его и снова уставился в свою чашку. За плотно сжатыми губами я пребольно кусал кончик собственного языка, только чтобы не разреветься при нем. Мой отец всегда презирал слезы, и к тому же, я был уже слишком большой, чтобы плакать, даже несмотря на то, что мне впервые в жизни пришлось столкнуться с чем-то настолько душераздирающим, как прощание с тем, кого я любил всецело и безраздельно, и кого я мог никогда больше не увидеть.