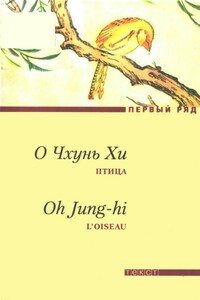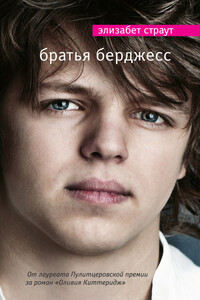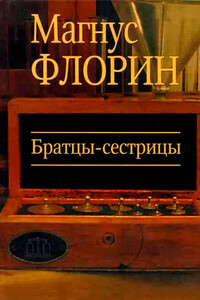Становление бытия | страница 7
В версии о тождественности сознания и самосознания за актуальность следует принять сам факт неисключаемости в образовании понятия о сознании встроенности осознания осознающим субъектом.
У Сартра сознание спонтанно возникает, не сознавая, откуда и как («в недрах бытия»). В плотности бытия. Как продукт его декомпрессии Но это всего лишь метафора.
Но каков же «генезис» сознания? Где именно то, откуда оно «спонтанно возникает», неведомо «откуда и как»? Сознание есть «вкус» и тинктура Бытия и Ничто. Ему неоткуда взяться, кроме себя. Для него нет причины и оно не есть следствие чего-либо. Ведь беспредельное ВСЁ включает всё так, что оно есть принципиальная полнота. Сознание есть тинктура этого. Оно есть вкус и окраска его. Эти вкус и окраска универсальны в предельной простоте в том смысле, что не имеют «таковости». Они принципиально бескачественны.
Но осознанная полнота Бытия видит и своё иное. Она не знает, чего она полнота. И в этом её предельная лишённость в полноте негации.
О ВРЕМЕННОМ КОНТИНУУМЕ
Мы теперь рассмотрим предмет, который может иметь фундаментальное значение для анализа сакраментальных событий в их временной определённости. Причина такой значимости этой темы очевидна. Время, в многообразии выражения устойчивого философского интереса к нему, является традиционной проблемой для осмысления и осознания его природы. Мы рассмотрим одну из главных связанных с временем проблем — выявления структуры его протяжённости. Разумеется, мы не можем претендовать на полноту освещения этой проблемы, но ограничимся теми возможностями, которые обеспечатся нашим пониманием вопроса с включением в его рассмотрение и спекулятивных ресурсов нашего мышления.
Мы будем априори исходить из предположения, что специфика структурирования времени в нашем его осознании есть фиксация в нём именно онтологической природы времени. Собственно говоря, у нас и нет иных перспектив, поскольку время осознаётся нами в своей независимости от причастности к любой конкретности в многообразии сущих, но и в возможности постижения в его восприятии в чистой от них отстранённости. Этот факт выражается в универсальности его осознания с непривязанностью к таковой причастности. Таким образом, время в нашем осознании несёт в себе фактор полноты онтологической значимости.
Традиционно представление о времени связано с фактом его протяжённости. Но конструирование осознания образа чистого времени в мышлении всегда связано с неизбежно сопровождающим таковое конструирование подозрением, что структура интервалов его протяжённости зависит от того, насколько этот интервал отнесён далеко от настоящего момента. Впрочем, этот факт никогда не рассматривался как значимый, и временная прямая как образ чистого времени в его осмыслении всегда полагалась однородной в её структурировании. Но это существенно не так. Ведь автоматическое перенесение структурированности однородного континуума времени при рассмотрении его в временных интервалах, непосредственно примыкающих к настоящему моменту, не соответствует самой фактуре восприятия связанных временем реальных для нас событий как в прошлом, так и в будущем. Мы обычно игнорируем при анализе структуры времени, что присдвиге рассматриваемого интервала времени сам факт констатации темпорального соотношения событий претерпевает тем большее обеднение в конкретике этого соотношения, чем дальше мы относим временной интервал. Такой феномен всегда интерпретируется как малозначимый эффект субъективного проявления особенности памяти осознающего субъекта. И действительно, каждый субъект имеет свою меру забывания происшедшего в прошлом и свою меру предвидения будущего, но верно одно — общая для всех такая тенденция. При этом нас не должно вводить в заблуждение придающее этому качеству видимость тривиального объяснение подобной «забывчивости». Ведь она носит универсальный характер и выражает общее свойство представления чистого времени. Здесь надо пояснить, что именно это пренебрегаемое качество временной протяжённости, как правило, не переносится именно в конструируемый образ чистого времени в его отвлечении от вещной конкретики. Как если бы субъектом в принципе не претерпевались изменения при отодвигании прошлого в его памяти, но разве только во всех частных событиях в конкретных сущих. Мы же постулируем это качество времени как его собственное универсальное свойство. Снятие мысленного образа структурного качества временного континуума фиксирует в сознании факт всё меньшего действия модуса различительности между моментами времени, сопряжение которых в предположительном их соотнесении в бывшем «настоящем» осознавалось в существенно большей различительности. Таким образом, во временном континууме образы бывших событий претерпевают тенденцию к слиянию и неразличительности. В образной интерпретации имеет место «сжатие континуума», когда в отстранённом осознании такого процесса как бы сокращается временной интервал между уходящими в прошлое событиями.