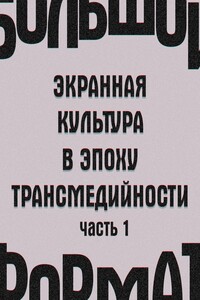Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3 | страница 45
В итоге в картине наблюдается полифоническая темпоральная конструкция, сплавляющая «закрытое время» транссентиментальной ностальгии с моментами «остановленного» «фундаментально незначимого» времени. Такое сочетание весьма характерно для современной медитативной академической музыки, развивающейся в зоне opus post, с характерным противопоставлением ностальгически «созерцаемой» музыкальной структуры и «свертывания» времени в сонористический кластер (упомянем здесь опыты А. Тертеряна и В. Сильвестрова)> [39].
Вместе с тем архитектоника фильма предстает в аспекте становления, повторяющего композиционный алгоритм вступительного сновидения. Сначала заявляет о себе сонатная функциональность образов, противопоставляющая два ландшафтных уровня военных действий – равнинный и горный. Постепенно возникает диалог со смысловыми и процессуальными архетипами мифологического мироздания. Восхождение на гору – метафорическую Валгаллу – осмысливается как центр пятичастной концентрической композиции, обозначающий вертикальную субординацию дольнего и горнего миров. Роль характерного для мифа медиативного механизма, объединяющего топосы, выполняют переключения между пространствами объективной и субъективной реальности. Прослаивание векторного движения фабулы (подъем – спуск – подъем – спуск) сновидческими сценами образует характерное движение по спирали.
Звуковая горизонталь также наделяется функцией медиации – нанизывания элементов, принадлежащих разным смысловым, в том числе ландшафтно-географическим, уровням. Кульминацией подобного топологического скольжения становится последний эпизод на заставе, где происходит выход за пределы культурного хронотопа фильма в метапространство сокуровской фильмографии. Фонограмма здесь синтезирует режиссерские автоцитаты из более ранних фильмов («Одинокий голос человека», «Тихие страницы») с темами Г. Малера, Р. Вагнера и Т. Такэмицу, относящимися к знаковым звучаниям всего метатекста.
Таким образом, картина «Духовные голоса» обнаруживает связь с единым смысловым пространством метафильма мастера через принципы организации музыкального ряда. Не последнюю роль в этом играет связь с вагнеровской тетралогией, ее звучаниями и лейтмотивной системой организации художественного макрокосма. Так использование в фильме в качестве лейттем вагнеровского мотива смерти из Похоронного марша на смерть Зигфрида, «Песен об умерших детях» Г. Малера и музыки Т. Такемицу из фильма А. Дзиссодзи обнаруживает изоморфизм звуковых пространств целостного метатекста и фильма. При этом развивающийся аудиовизуальный континуум картины обнаруживает принцип организации, характерный для движения во времени самого художественного мира мастера. Так первая часть, реализующая идею изменчивости на фоне статики, становится аудиовизуальной метафорой вариативности – древнейшего принципа, лежащего в основе любого процесса