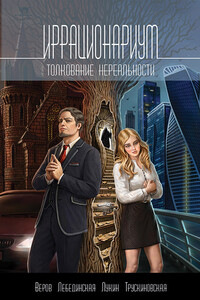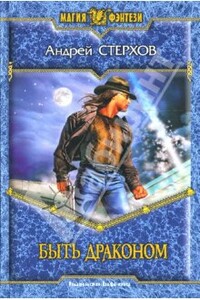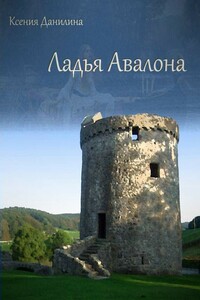Сиамский ангел | страница 21
Но и Маша поймала вдруг это словно висевшее в воздухе предчувствие «недобра». Она хмуро поглядела на соседку.
– Вот так-то и бывает, когда непутем любишь! Вдове-то о себе думать нужно. Повыть – да и успокоиться. А ей и неведомо что на ум взойдет!
– Помолчи ты, Бога ради!
По двору шла Прасковья, и сразу видно было – с расспросами и не подступайся.
– Вот тоже, вдова нашлась… – шепнула неуемная Маша.
Катя только посмотрела на нее сердито.
Прасковья дошла до забора и словно только теперь поняла, что перед ней – преграда. Посмотрела направо, налево, будто ища того, кто уберет проклятый забор. Но такого не нашлось – и она осталась стоять, держась за доску и повесив голову.
Катя, подойдя с другой стороны, положила ей руку на плечо.
– А ты поплачь, – сказала тихонько. – Давай ко мне пойдем, посидишь у меня… бедная ты моя…
Прасковья поглядела ей в глаза.
– У нее, моей голубушки, – сказала, – волосики-то за ночь побелели!.. Я-то что?! А на нее гляжу – а у нее одна прядка темненькая, другая – беленькая… А мне-то что?… Кто я?… А она сидит и просит, чтобы не выносили… отец Василий, говорит, придет – исповедовать, причащать и соборовать… Нельзя, говорит, без исповеди… Нельзя с собой в могилу все грехи брать… А я-то что?… Разве я виновата?… А она-то знай, одно твердит – пусть лучше я, твердит, помру без покаяния!..
В спальне был непонятный полумрак. После обеда ему наступать вроде было рано. А обед подавали только что… если вообще подавали… невозможно вспомнить поминальный стол и то, что на нем, и ни единого слова о кушаньях… и вкуса, и запаха тоже…
Нет – ободок тарелки вдруг перед глазами обозначился, ни с того ни с сего. И пропал. Синее с золотом и в цветочек…
Аксюша подняла глаза и увидела себя в зеркале – высокую, статную, но с неузнаваемым лицом.
Вспомнила: кто-то шутил, что они с Андреем – ровнюшки, и годами вровень, и плечиками… почти…
А не свое там лицо… не свое…
Она обеими руками огладила волосы, обжала, свела пальцы у основания косы. Все равно в этом лице больше не было ничего такого, за что его можно было бы признать своим.
Но коли не свое…
То, что началось, невозможно было описать словами. А если бы нарисовать – так получилась бы дремучая чащоба, в которой только что еще не было ни пути, ни тропинки, один густой мрак, и вдруг непонятно откуда пробился свет – и обозначились ветви, стволы, чуть-чуть, может, и не светом, а шорохом листвы, запахом, иной теплотой воздуха вокруг них…