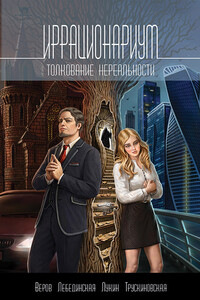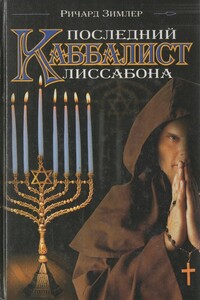Заколдованная душегрея | страница 124
Видать, растравила себе душу воспоминаниями Настасья – замолчала и отвернулась. Данилка изогнулся, заглядывая в лицо, – не плачет ли? Нет, не плачет, глаза сухи…
– Настасьица… – когда молчание затянулось, напомнил о себе Данилка.
– Да, вот так он ехал за мной и ждал, пока обернусь. И глядит он на меня, улыбается, словно говорит: моей будешь! Я насилу с собой совладала. Все девки о женихах мечтают, а такой красоты никому и во сне не привидится. Потом стала я понемногу с этой гадюкой Егоровной сговариваться… Она в церкви перед образами слово дала – хочет княжич на мне повенчаться. И он тут же – смотрит из дальнего угла, усмехается… Потом я в сад вышла, он в переулке к забору подошел, словечком перемолвились. И увел он меня, дуру! Спрятал в высоком тереме, и там я с ним жила. На рождество Ивана Крестителя я из дому ушла, а на великомученицу Катерину беда и стряслась. Я его возьми да и спроси: Саввушка, когда ж повенчаемся? Вот уж пост наступил, потом – Рождество, Святки, а зимний мясоед, говорят, будет короток, Великий пост начнется рано, а ты родителям еще, поди, и словом не обмолвился? А он мне в ответ и рассмеялся. Дура ты, говорит, дура, нешто на таких дурах венчаются? Живем – и ладно, поживем еще. Как я оземь не грянулась, до сих пор не понимаю… А ведь уже дитя носила… Как раз сказать ему хотела…
– У тебя ребеночек есть? – снова ни к селу ни к городу спросил Данилка. Но она не обиделась.
– Есть, Данилушка. В богаделенке при Моисеевском монастыре растет. Но ты меня не кори! – Настасья даже отшатнулась от парня. – Лучше моей доченьке не знать, не ведать, какова ее мать стала! Родилась доченька в один годок с царевной Марфой Алексеевной, только моя-то малость постарше будет, я ее в Успенье Анны-праведницы родила, а государыня Марья Ильинишна свою – на семьдесят апостолов. А вскоре после того моровое поветрие случилось, за патриаршие грехи. Мы из Москвы успели уйти, меня купец увез казанский, я с ним тогда сошлась. И Анюте моей матушки-черницы сказали – твои, мол, сирота, родители от чумы скончались. И точно – хуже чумы мне моя жизнь, а тому Савве не только что чумы – огненной печи было бы мало!
Данилка молчал. Ярость Настасьи ошеломила его. Он и понимал, что за такой грех женщина не прощает, и дико было ему узнавать, какие невзгоды прячет языкастая девка, в придачу не чужая, а его же собственная кума…
– Жалеешь? – вдруг спросила Настасьица.
Он не знал, что отвечать.