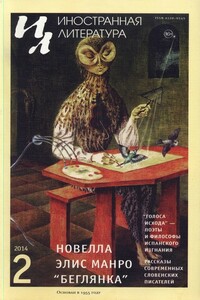Теория литературы. Проблемы и результаты | страница 38
Согласно его теории, центральное ядро литературы образует некоторое количество текстов, которые всегда будут признаваться литературными, независимо от нашего ценностного отношения к ним; а ее периферию – другое множество текстов, которые становятся или перестают быть литературными в зависимости от обстоятельств. Тексты первого рода принадлежат к литературе потому, что воспроизводят определенные устойчивые литературные формы: например, относятся к определенным жанрам или просто написаны в стихах. Такая неизменная, постоянная форма литературности называется у Женетта конститутивной, или эссенциальной (литературность по сущности). Если текст написан в форме сонета – пусть даже с ошибками, лишь бы они не мешали опознавать его как сонет, – он обязательно принадлежит к литературе. Это не зависит от его содержания (темы): в форме сонета можно изложить признание в любви, или научную идею, или политический призыв, или даже кулинарный рецепт (так один из персонажей драмы Ростана «Сирано де Бержерак» переложил в стихи рецепт миндального печенья). И это не зависит от его художественного качества – плохая литература тоже является литературой, и подавляющее большинство стихотворений – плохие, что не мешает им принадлежать к художественной литературе: «Самая скверная картина, самая неудачная соната, самый плохой сонет принадлежит тем не менее к живописи, музыке и поэзии…»[63] Фразы типа «стихи такого-то – не поэзия» лишь отчасти соответствуют реальному положению дел: с одной стороны, подобные оценки нередко пересматриваются, а с другой стороны, по своей форме все стихотворные тексты остаются принадлежащими к литературе, может меняться лишь их иерархическое место.
Что же касается литературной периферии, то по Женетту она, вообще говоря, не хуже и не лучше центра, и между ними не бывает динамических напряжений и переворотов. Периферию образуют всевозможные тексты, которые обычно относятся к нелитературным жанрам, но в определенных обстоятельствах могут причисляться к литературе. Женетт приводит в пример некоторые произведения историографии: действительно, книги Геродота, Мишле или Карамзина сегодня часто читаются как художественная словесность, в их изложении есть некоторые качества, которые интересны нам не меньше, чем историко-фактическое содержание. Другим примером могут служить упоминавшиеся еще Тыняновым (в статье «Литературный факт», 1924) личные письма: некоторые из них, в некоторые эпохи, перечитываются множеством посторонних людей как образцы художественной словесности, независимо от той непосредственной роли, которую они могли играть в отношениях автора и адресата. В терминах Якобсона, в них происходит перегруппировка функций: одни функции высказывания (референциальная, эмотивная, конативная и т. д.) отступают на задний план в читательском восприятии и вытесняются другой функцией – поэтической. Такая кооптация в состав литературы может захватывать целые жанры, а может применяться «в виде исключения» к отдельным текстам или даже их фрагментам; они обладают