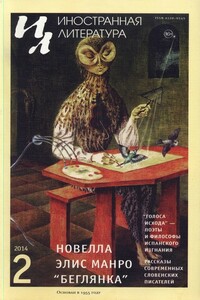Теория литературы. Проблемы и результаты | страница 37
Попытку примирения, взаимной артикуляции двух подходов к литературности предпринял Жерар Женетт, применяя примерно ту же логику теоретического компромисса, что и при разделе «сфер влияния» между поэтикой и герменевтикой (см. § 4). В книге «Вымысел и слог (Fictio et dictio)» (1991), опираясь на статью Тодорова «Понятие литературы», он вместо попыток построить единое определение литературности поставил себе задачей описать реальную множественность и изменчивость этих определений, разделить разные типы литературности. Он продолжает жест критической философии Канта: анализирует разные возможности нашего мышления (в данном случае – о литературе); сходным образом Мишель Фуко сопоставлял взаимно неконгруэнтные определения гуманитарных наук, зависящих от устройства «эпистемы», то есть историко-культурной формации[60], а непосредственным образом Женетт опирается на американского философа и эстетика Нельсона Гудмена, предложившего заменить эссенциалистский вопрос «What is art?» вопросом эмпирическим: «When is art?»[61], то есть, в нашем случае, спрашивать не «что такое литературность?», а «когда имеет место литературность?». Ответ на этот вопрос будет различным для разных типов текста: для одних – «всегда», для других – «при определенных условиях».
Женетт предлагает разграничивать не литературу и нелитературу (вне-литературу), а центр и периферию литературы. Такая концепция, по-видимому, восходит к Юрию Тынянову, к его понятию литературного факта. Тынянов предлагал выделять для каждой историко-литературной ситуации, с одной стороны, доминантные тексты, жанры, формы творчества, признаваемые образцом литературности (например, высокие жанры для классицизма), – а с другой стороны, те, что находятся на периферии литературы и относятся к «быту» (см. ниже, § 10). Тыняновская концепция была динамической и допускала взаимообратимость центра и периферии в ходе литературной революции: центральные жанры дискредитируются и «съезжают на периферию», а полулитературные или даже вовсе не литературные формы захватывают доминантное, центральное положение, продуктивные жанры становятся непродуктивными и наоборот: «В эпоху разложения какого-нибудь жанра – он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин вплывает в центр новое явление»