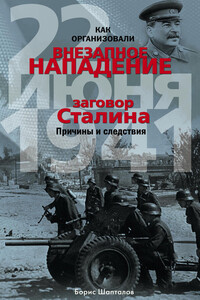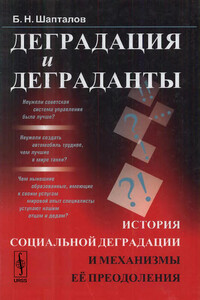Испытание войной | страница 59
Лишь в Заполярье советские войска отстояли Мурманск, что дало возможность проводить в будущем конвои союзников в российские порты. Это был единственный стратегический успех. Везде же, от Черного моря до Карелии, Красная Армия, за исключением отдельных частей, воевала плохо и откатывалась далеко на восток в глубь страны. Даже там, где у нее возникали солидный материальный перевес и возможность перехвата инициативы в выборе времени и места наступления, она все равно терпела поражение. Неумение Красной Армии воевать - вот в чем заключался подлинный шок и для руководства, и для страны в первые недели войны.
Какие же выводы можно сделать на основании событий лета 1941 г.?
Качество предвоенной работы можно оценить только в боевой обстановке. Оно слагается из трех основных компонентов: 1) объема подготовленных материальных ресурсов; 2) уровня подготовки личного состава и 3) эффективности управления (отбор и расстановка кадров, применение наиболее адекватных приемов тактики ведения боя и оперативных принципов осуществления войсковых операций).
Если с объемом подготовленных к войне материальных ресурсов было все в порядке, ибо даже агрессор не имел такого количества танков, самолетов, минометов и боеприпасов, как Красная Армия, то по остальным компонентам качества выявились просто провальные недочеты.
Располагая всеми возможностями для оказания достойного сопротивления, советские войска из-за политики Сталина оказались застигнутыми врасплох. Не имея четких планов и прочной связи, штабы фронтов - не по своей вине нацеливали армии прикрытия на плохо подготовленные, поспешные контрудары, истощавшие войска. Лишь в отдельных случаях, а именно "внизу", на уровне дивизии, полка, гарнизона, когда не давило некомпетентное вмешательство "сверху", кадровые части сражались хорошо и упорно.
В своих мемуарах Г. К. Жуков упрекнул командование приграничных округов в уходе от ответственности. "Войска и их командиры в любой обстановке в соответствии с уставом должны всегда быть готовыми выполнить боевую задачу. Однако накануне войны, даже в ночь на 22 июня, в некоторых случаях командиры соединений и объединений, входивших в эшелон прикрытия границы, до самого последнего момента ждали указаний свыше и не держали части в надлежащей боевой готовности, хотя по ту сторону границы был уже слышен шум моторов и лязг гусениц" (с. 262){6}. Но прежде чем требовать инициативности от командиров, надо предоставить им право на нее. Ведь командующим округов было строжайше запрещено проводить какие-либо мероприятия, способствовавшие реальному повышению боеготовности частей. Что мог подумать командир, услышав "лязг гусениц" и зная о настроениях высшего военно-политического руководства страны: "Я подниму часть по тревоге, а вдруг это провокация?"