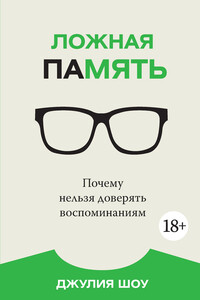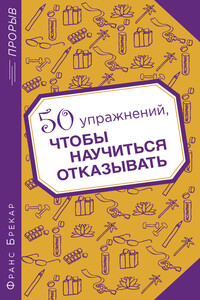Психология зла. Почему человек выбирает темную сторону | страница 129
Кто входил в этот «миллион пособников»? И был ли это только лишь миллион? Обсуждая сложности жизни в нацистской Германии, мы должны выделить разные модели поведения, позволившие тем тяжким преступлениям осуществиться. Среди тех, кто допустил холокост, самую большую группу составили наблюдатели: те, кто не поверил в идеологию, не состоял в нацистской партии, но видел зверства или знал о них и никак не вмешался. Наблюдатели были не только в Германии, но и во всем мире.
Затем идут те, кто поддался пламенным речам, рассудил, что этнические чистки помогут сделать мир лучше, и действовал в соответствии с убеждениями. Наконец, были и те, кто не верил в нацистскую идеологию, но не видел другого выбора, кроме как присоединиться к партии, или полагал, что это решение даст личные преимущества. Часть тех, кто вел себя несоответственно своим убеждениям, «исполняя приказы», убивали других, но многие действовали не напрямую: они были администраторами, пропагандистскими авторами или заурядными политиками, но не непосредственно убийцами.
Милгрэма более всего интересовал последний из всех этих типажей, он хотел понять, «как обычные граждане могли вредить другому человеку лишь потому, что им так приказали»[259]. Стоит кратко напомнить о методике, описанной в главе 3: участников эксперимента попросили бить током человека (как они полагали, другого добровольца, сидящего в смежной комнате), усиливая удары, как им казалось, вплоть до того, что убивали его[260].
Эксперименты Милгрэма, возможно, заезженная тема в популярных психологических книгах, но я привожу их здесь, потому что они коренным образом изменили взгляд ученых и многих других людей на человеческую способность к соглашательству. Эти эксперименты и их современные версии демонстрируют мощное влияние, которое оказывают на нас фигуры власти. Но эти исследования критиковали. За то, что они были слишком реалистичными, и за то, что они были недостаточно реалистичными. С одной стороны, некоторые участники могли быть травмированы реализмом происходящего, поверив, что убили кого-то. С другой стороны, отдельные испытуемые могли догадаться, что боль была ненастоящая, учитывая, что они участвовали в эксперименте, и, возможно, зашли дальше, чем стали бы в настоящей жизни.