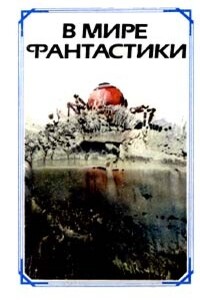Чернобыльский дневник (1986–1987 гг.). Заметки публициста | страница 57
У нас не хватало удлинителей. И тотчас появилась Люба: «Навезли шнуров да ящиков, а толку, — язвила она, — без электричества, видите ли, играть уже не могут. Руки не оттуда растут». Я не утерпела, попытавшись утихомирить ее: «Да вы не беспокойтесь, ребята сыграют все, что захотите: и польку, и гопак, и вальс. Еще пять минут — и все будет готово. Наш жених…» Лучше бы мне не раскрывать рта… Люба с остервенением сплюнула: «Ваш жених! Да мы бы такого жениха и близко к своей хате не подпустили, если бы не это горе… Нашла добро! Думаешь, джинсы напялила да космы распустила — и королева!..»
Меня выручила музыка. Люба издала победный вопль и так взбрыкнула ногами, что взвился песчаный столб.
Толпа заплясала, не сходя с места. Появилась невеста, держа под руку жениха. Белое платье впереди морщилось, поднималось на животе, а сзади подол его волочился по земле. Жених заказал вальс. Толпа расступилась, впустив новобрачных в круг, и вновь сомкнулась. Женщин не хватало. Мужчины танцевали друг с другом. Неожиданно меня пригласил высоченный дядька сажень в плечах, как говорят о таких. Новенький костюм сидел на нем так плотно, что, казалось, прирос к телу. Танцевал он здорово. Чувствовалась старая школа. Он вальсировал легко и раскованно, причем не только по часовой стрелке, но и против, не давая моим ногам коснуться земли. Его надежно вытесанное лицо при всей мужской сдержанности сияло удовольствием. Проводив меня и уже собираясь уйти, он вдруг спросил: «Ну и сколько мне лет, по-вашему?» — «Пятьдесят», — выдохнула я, сознательно скинув десяток. «Скоро восемьдесят! — отчеканил он, — и нисколько не устал — офицерская закалка!» Я дышала тяжело. И не только от танца. Пыль стояла плотной завесой, щекотала ноздри, собиралась комком в глотке, заставляла слезиться глаза. Песок хрустел на зубах. Музыкантам доставалось особенно — они еще и пели, как-то обезличенные пылью. Их чернявые головы казались седыми. «Что же это делается? Пыль-то наверняка того… радиоактивная…» Но мысль эта ворохнулась вяло и почти безразлично — уже свыклись. Да и целиком была поглощена невиданным зрелищем…
Стояла глухая ночь. На небе ни звездочки. Только слабый свет лампочки освещал музыкантов. Толпа, черная и подвижная, с глухим рокотом, словно вышедшая из берегов река, текла в разные стороны, внезапно, но плавно и согласно, что было удивительнее всего, меняя направление. Казалось, каждый пляшущий (именно пляшущий, а не танцующий) был сам по себе: выкидывал коленца, хлопал в ладоши, выкрикивал что-то, не обращая внимания на других, не заботясь о мнении окружающих, сосредоточившись лишь на своих ощущениях и мыслях. И все же в лицах и поведении людей было что-то общее, ущербное, но притягательное даже в ущербности…