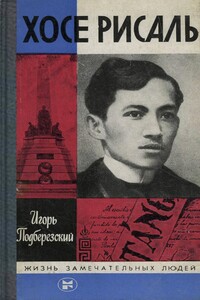Сквозь ночь | страница 47
Стояла глубочайшая тишина, почему-то не слышно было собачьего лая, и я вспомнил, как неумолчно, с подрывом перекликались деревенские собаки, когда я просыпался так вот ночью на полатях у тетки Ивги и подолгу лежал, борясь с желанием отломить потихоньку хлеба и съесть.
У памяти свои права. Время ворошит и веет пережитое, мякину уносит прочь. Вчерашнее забудется наглухо, давнее — помнишь, да не сплошь, а какими-то врезанными навечно кусками.
Выкурив папиросу-другую, я стал вспоминать: как же все началось?
Рано утром плакала в коридоре молочница (бог ты мой, тогда еще существовали молочницы?), говорила: «Война, война». Ее успокаивали: «Да что вы, учебная тревога»… Ну а дальше?
Радио, суровый марш Александрова, помрачневшие люди на улицах, противогазы через плечо — все смазано, все мелькает, неясно до позднего вечера, когда в дверь позвонили настойчиво, и все прояснилось вдруг до резкости, все встало на место.
Не помню лица, но почему-то помню отчетливо руку с обрубком большого пальца и как этот обрубок — одна фаланга без ногтя — прижимает к дверному косяку повестку, пока я расписываюсь огрызком карандаша.
Дальше помню прощальный обед, молчание и соседку с четвертого этажа, как она постучалась и вошла, близоруко щурясь и держа в руке запечатанный конверт.
— Кажется, вы собираетесь на фронт? — спросила она, пожелав приятного аппетита и отыскав меня взором. — К вам небольшая просьба. Говорят, наши к Варшаве подходят, а у меня там тетя, не виделись двадцать пять лет… Вы не откажетесь?.. Письмецо, буду весьма признательна…
Насчет Варшавы я сомнений не выразил, взял письмо, а вот куда оно делось, не помню.
Моей дочери было тогда пять с половиной лет. Вечером ее уложили, она подозвала меня: «Дай руку». Взяв мою ладонь в свои, поглядела в глаза, сказала тихо: «Тревога пришла». И уснула, крепко держа, а я осторожно высвободился, потому что пора было уходить.
В трамвае тускло светили синие лечебные лампы. У кондукторши сумки висели через оба плеча — одна с билетами, другая с противогазом. Пассажиры молчали. Тихо было и в теплушке, куда я забрался на ощупь.
Всю ночь мы простояли на станции. В темноте то и дело вспыхивали прикрытые ладонями спички, слышались вздохи, покашливания, беззвучно разгорались и угасали папиросные огоньки. Наутро мы перезнакомились — сорок разного возраста приписников с чемоданами, мешками-«сидорами» и туристскими рюкзаками. Когда эшелон тронулся, к нам вскочил на ходу еще один — встрепанный, в хорошо сшитом черном костюме и без вещей.