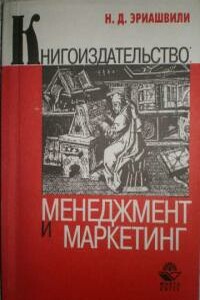Танатологические мотивы в художественной литературе | страница 87
Трудно представить себе танатологические знаки (мотивы), лишенные коннотативных сем. Скорбь, печаль, страх, радость за победившего героя, убившего «справедливо» и избежавшего гибели, злорадство по поводу «справедливо» погибшего злодея, катарсическая слезная реакция – все это, как правило, сопровождает рецепцию танатологического дискурса, свидетельствуя о наличии в нем эмоционально-экспрессивных компонентов. Ничто так не привлекает внимание реципиента, как разговор или словесное рисование на табуированную тему: этот факт отмечают многие исследователи массовой культуры, активно эксплуатирующей образы смерти (см., например, [Кара-Мурза 2000: 272–273]). Любая танатологическая концепция имеет коннотативную связь с мировоззренческими системами, распространяющимися за границы литературы (религиозными, философскими, эстетическими и пр.), где зачастую феномен смерти ассоциируется со злом и наказанием за грехи.
Если же принять во внимание проблему недоступности смерти для познания человека, то значение танатологических мотивов явно теряет свою связь с денотатом и располагается в области одних лишь коннотаций. Это значит, что танатологическое повествование может касаться умирания или танатологической рефлексии, но сам факт смерти и посмертного состояния человека оказываются всегда сферой переносных значений, домыслов и гипотез.
Эта проблема становится не такой страшной, если учесть отношение к денотативному значению в семиотике вообще. Мы уже отмечали редуцированность денотата (референта) в концепции Ф. де Соссюра (см. 1.3). У. Эко так комментирует данный вопрос: «Наличие или отсутствие референта, а также его реальность или нереальность несущественны для изучения символа, которым пользуется то или иное общество, включая его в те или иные системы отношений. Семиологию не заботит, существуют ли на самом деле единороги или нет, этим вопросом занимаются зоология и история культуры, изучающая роль фантастических представлений, свойственных определенному обществу в определенное время, зато ей важно понять, как в том или ином контексте ряд звуков, составляющих слово “единорог”, включаясь в систему лингвистических конвенций, обретает свойственное ему значение и какие образы рождает это слово в уме адресата сообщения, человека определенных культурных навыков, сложившихся в определенное время» [Эко 2004: 64].
Значит, коннотативные компоненты в семантике танатологических знаков оказываются важнее первичной архисемы, которую можно отводить на второй план, лишь подразумевать и ставить на ее место новые генеральные семы метафорического характера.