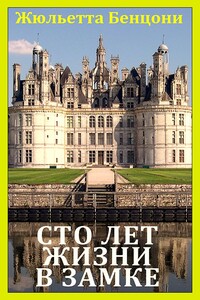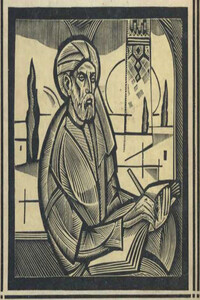Взгляд змия | страница 79
Верно говоришь, батюшка. Всюду наука нужна. Умереть редко кто умеет. Жить – тут все мастера. Еще и посоветуют. А вот умирать не умеют. Сколько мне довелось видеть всяких смертей, но ни одной такой, чтобы и самому захотелось.
– Смейся, смейся, сынок. Поглядим еще, чья правда, во имя Отца и Сына и Святого Духа…
Нет, батя, я не шучу, не до смеха мне. Ты не гляди, что у меня глаза масленые. Это оттого, что не могу танцевать. Очень мне это дело нравится. Одно время, когда я уже думал, что стал набожным христианином и рука моя никогда больше не поднимется на преступление, мне захотелось свалить на чужбину и собрать там труппу любителей танца. Мы бы танцевали утром, в обед и вечером. Мы бы плясали, плясали, плясали без устали, пока не рухнули на землю, но и тогда смотрели бы, как пляшут остальные. А на следующее утро начинали заново. Вот это была бы жизнь, а, батюшка? Настоящая жизнь. Говорят, в чужих краях есть церкви, в которых на службе играет музыка и прихожане только и делают, что танцуют. Но я этому не верю. Слишком жирно получилось бы. Вот почему глаза мои блестят. Не до смеха мне.
Ну ладно, теперь слушай. Один такой мне рассказывал, что помнит свою повитуху, а он видел ее всего раз, когда родился. Как ты его на вранье поймаешь? Да никак. Я повитухи не помню, но моя память тоже не лыком шита, далеко берет. Первое, что крепко засело в голове, – это дым. Затопили печь, и дым ползет в дверцу назад, на кухню. В дымоходе нет тяги, пламя то и дело затухает, сухонькие, словно змеиная кожа, щепочки растопки с берестой кое-как сгорают, но мокрые осиновые дровишки только коптят, превращаясь в клубы едкого белого дыма, упрямо отказываются идти в дымоход.
«И смех и грех, деточка, – ахает бабушка. – Давно не топлено, вот отчего».
Я сижу в люльке, и это все, что я умею, – сидеть.
– Да ты выдумщик, Мейжис. Всего-то и умеешь, что сидеть, а уже все ведаешь. И о дровишках, и о дымоходе, и бабушкину речь понимаешь.
Эх, батя, снова ты меня прервал. Я ведь тебя просил… Конечно, я все это узнал потом, когда уму-разуму научился. В то время я еще ничего не понимал. Помню только образы и звуки.
– Прости, меня, Мейжис. Не стану больше встревать.
Сижу я, значит, себе в колыбели и озабоченно сую между пальцев палочки, смеюсь, довольный, когда удается просунуть три палочки меж четырех пальцев. Бабушкины слова для меня пока значат то же, что и ее кряхтенье, когда в легкие к ней попадает дым. Кашель тоже бывает приятен для слуха, и я слушал его так же внимательно, как и ласковые ее речи.