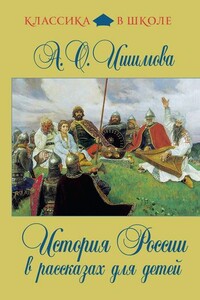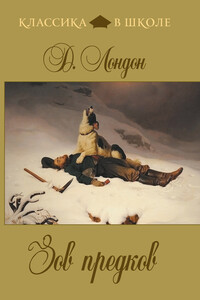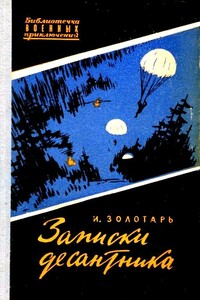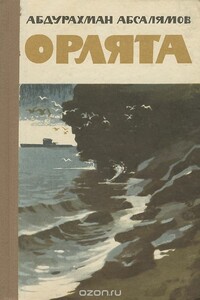Повесть о настоящем человеке | страница 60
Однажды во время утреннего обхода шеф госпиталя — назовем его Василием Васильевичем — наткнулся на две койки, стоявшие рядом на лестничной площадке третьего этажа.
— Что за выставка? — рявкнул он и метнул из-под мохнатых своих бровей в ординатора такой взгляд, что этот высокий сутулый, уже немолодой человек очень почтенной внешности вытянулся, как школьник.
— Только ночью привезли… Летчики. Вот этот с переломом бедра и правой руки. Состояние нормальное. А тот, — он показал рукой на очень худого человека неопределенных лет, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами, — тот тяжелый. Раздроблены плюсны ног, гангрена обеих ступней, а главное — крайнее истощение. Я не верю, конечно, но сопровождавший их военврач второго ранга пишет, будто больной с раздробленными ступнями восемнадцать дней выползал из немецкого тыла. Это, конечно, преувеличение.
Не слушая ординатора, Василий Васильевич приподнял одеяло, Алексей Мересьев лежал со скрещенными на груди руками; по этим обтянутым темной кожей рукам, резко выделявшимся на белизне свежей рубашки и простыни, можно было бы изучать костное строение человека. Профессор бережно покрыл летчика одеялом и ворчливо перебил ординатора:
— Почему здесь лежат?
— В коридоре места уже нет… Вы сами…
— Что «вы сами», «вы сами»! А в сорок второй?
— Но это же полковничья.
— Полковничья? — Профессор вдруг взорвался: — Какой это болван придумал? Полковничья! Дурачье!
— Но ведь нам же сказано: оставить резерв для Героев Советского Союза.
— «Героев», «героев»! В этой войне все герои. Да что вы меня учите? Кто здесь начальник? Кому не нравятся мои распоряжения, может немедленно убираться. Сейчас же перенести летчиков в сорок вторую! Выдумываете всякие глупости: «полковничья»!
Он пошел было прочь, сопровождаемый притихшей свитой, но вдруг вернулся, наклонился над койкой Мересьева и, положив на плечо летчика свою пухлую, изъеденную бесконечными дезинфекциями, шелушащуюся руку, спросил:
— А верно, что ты больше двух недель полз из немецкого тыла?
— Неужели у меня гангрена? — упавшим голосом проговорил Мересьев.
Профессор царапнул сердитым взглядом свою остановившуюся в дверях свиту, глянул летчику прямо в черные большие его зрачки, в которых были тоска и тревога, и вдруг сказал:
— Таких, как ты, грешно обманывать. Гангрена. Но носа не вешать. Неизлечимых болезней на свете нет, как нет и безвыходных положений. Запомнил? То-то.
И он ушел, большой, шумный, и уже откуда-то издалека, из-за стеклянной двери коридора, слышалась его басовитая воркотня.