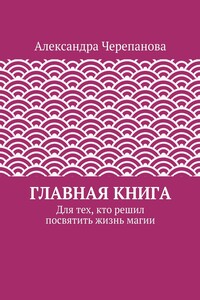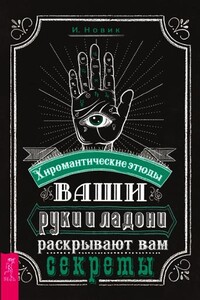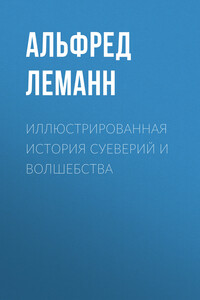Книга начинающего лозоходца: практическое пособие для самостоятельного освоения | страница 36
Обособление любой сферы человеческой деятельности автоматически приводит к появлению специфической системы понятий. Помимо общеизвестных слов, которыми каждый из нас пользуется в повседневном общении, у представителей любой профессии, социальной группы или клана существует свой внутренний язык, профессиональный или клановый жаргон. Это вполне понятно: речь — основа общения людей друг с другом, а там, где совершаются специфические действия, используются специфические предметы, необходимы специфические же слова. Иногда хорошо известным словам придаётся иное, отличное от общепринятого, прочтение. Например, самое распространённое сегодня название главного инструмента лозоходца — «рамка» — у человека, далёкого от лозоходства, вызовет, наверное, немало ассоциаций, — но только не те, которые возникнут у самого лозоходца.
Кроме того, в силу различных исторических — и не только исторических — обстоятельств случилось так, что некоторые области человеческой деятельности оказались вольно или невольно скрытыми от посторонних глаз и ушей. Соответственно, одним из основных средств сокрытия стал язык (речь).
В глубокой древности (как, впрочем, и ныне) «закрытые» социальные группы использовали свой особенный язык — арго, жаргон, сленг. Посвящённые в мистические таинства общались между собою на так называемом «языке птиц», который позволял им обмениваться информацией, в том числе и при посторонних, исключая возможность её утечки. Чем-то подобным иногда пользуется каждый из нас, когда вынужденно прибегает к иносказаниям, намёкам, понятным только узкому кругу хорошо знакомых людей.
Мы не знаем, пользовались ли лозоходцы древности своим особенным языком. Если лозоходство было «частным случаем» какой-либо более широкой области магического искусства, лозоходцы, возможно, пользовались принятыми в ней понятиями. О системе представлеинй и о языке магов прошлого мы можем получить некоторое (но — только некоторое, и весьма неполное) представление, исследуя древние источники. А вот вычурный и эклектичный язык многочисленных нынешних «адептов тайных знаний» едва ли в этом поможет.
Пристрастие к загадочным словесным конструкциям типа «это вещи, которые нельзя раскрывать на современном этапе духовной эволюции грядущей…дцатой расы», мешанина школ и стилей, свойственные «посвящённым» нашего времени, не только ничего не проясняют в древних знаниях, но, напротив, затуманивают их суть, окончательно всё запутывают. Если на каком-то этапе развития цивилизации «язык птиц» был необходимостью, средством сохранения тайны и даже выживания, то ныне он (а скорее, пародия на него) чаще всего есть лишь средство демонстрации чьей-то личной исключительности или принадлежности к неким «допущенным к тайнам внутреннего круга».