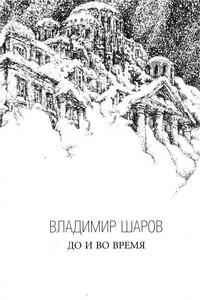Искушение Революцией | страница 37
Сначала почти час мы плыли вплотную к камышам, потом зашли в узкую петляющую протоку. Здесь было совсем мелко, мотор, переделанный из движка трофейного немецкого мотоцикла, подняли из воды, и наш хозяин, встав на корме, теперь медленно греб веслом. Протока то и дело раздваивалась, иногда почти пропадала в камышах, но он как-то ориентировался. Наконец, на плоском, в несколько шагов, островке мы увидели сколоченную из плавника хибарку, рядом просмоленную плоскодонку и старика, чинившего сеть. В отцовских сказках был точно такой, только цветной, и там он назывался гномом. Мы пристали, взрослые в несколько слов о чем-то договорились, и дальше мы уже плыли вслед за стариком. То в одной, то в другой протоке у него были поставлены верши. Он вытаскивал их из воды, в большинстве было пусто, все-таки три средних размеров щучки в конце концов нашлись. Устлав дно лодки осокой, мы побросали туда нашу добычу и поплыли дальше. Через полчаса мы были на острове, где стояла Спас Нередица.
От храма почти ничего не осталось, лишь неровная, идущая зубьями линия стены метра в четыре-пять высотой, да над этим, как и должно, висело небо. Немцы церковь то ли просто взорвали, то ли срезали артиллерийскими снарядами, узнав, что на звоннице наши устроили наблюдательный пункт. Там, где был вход, вскоре после войны навесили полукруглую деревянную дверь, для прочности обитую железными полосами. Все это давно сгнило и, несмотря на амбарный замок, на ветру немилосердно скрипело. У нас был ключ, но проржавевший замок не поддавался, пока мы не залили в него моторного масла. Внутри картина была совсем страшная – гора битого кирпича и осыпавшейся раскрашенной штукатурки. Там, где стены не были завалены обломками, роспись в большинстве мест сохранилась, даже краски были по-прежнему яркие, и все равно, что это можно восстановить, представить себе я не мог.
Потом, много позже, занимаясь русской медиевистикой, я часто думал о совсем другом устройстве новгородской жизни и о почти маниакальных попытках Москвы уничтожить самую память о ней, о последней из этих попыток – страшном опричном погроме Новгорода Иваном IV, после которого город так и не оправился. Однажды я вспомнил то свое детское путешествие и вдруг начал понимать историю взаимоотношений Москвы не только с Новгородом, а и с прочими землями, которые одну за другой она то деньгами, то уговорами, чаще же просто силой к себе присоединяла. Так получилось, что в этом моем понимании едва ли не главную роль сыграл Св. Георгий Победоносец.