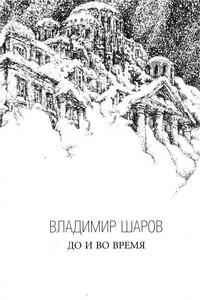Искушение Революцией | страница 32
В этой книге работа воспроизводится в отчасти сокращенном виде. Убрана большая часть прямых пересечений с другими эссе.
Прежде чем приступить к сути, мне, наверное, следует пояснить, что в этих моих заметках речь будет идти не о Москве как городе – мегаполисе, а лишь как о том месте, где пребывает верховная власть, чиновники, осуществляющие эту верховную власть, где формируется и формулируется их понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо», что полезно для всей страны, а что должно быть искоренено быстро и без всякой жалости.
Пару раз за последние годы, бывая на литературно-философских конференциях, в частности в Воронеже и Екатеринбурге, я столкнулся с почти маниакальным по закомплексованности противопоставлением Москвы и провинции. Причем тему эту мало кто обходил. Мне такой взгляд показался утрированным, пережатым; в конце концов, я знаю немало людей, которые, переехав из провинции в Москву, без особых проблем нашли себе здесь место. С другой стороны, и из Москвы в провинцию, правда, в более ранние, еще советские, годы перебрались трое моих близких знакомых, и им тоже жилось там вполне неплохо. Обдумывая все это, я перечитал одну собственную, еще двадцатилетней давности, работу и вдруг обнаружил, что выводы, которые из нее следуют, совершенно черно-белые, манихейские, в общем, куда более резкие, чем все, что я слышал на вышеупомянутых конференциях. Надо сказать, что это меня отчасти поразило.
Основой той работы была обнаружившаяся жесткая преемственность царей или правителей – это как будет угодно – революционеров: Андрей Боголюбский, Иван Грозный, Петр Первый, Ленин, Сталин – все они оказались очень схожими и в понимании собственной власти, и в средствах и способах утверждения этого понимания.
Русская верховная власть, хоть и продолжала говорить о прародителях, писать об отчине и дедине, еще в XV веке уверилась, что она другого – небесного происхождения. Естественным образом поменялся ее взгляд на себя и на страну, которой ей суждено было править. Обратившись к Богу, приняв, что если она и несет какую-то ответственность, то лишь перед ним одним, она разом по-иному стала смотреть на нас, своих подданных, вообще на то, что происходит в этом мире. Отсюда, пожалуй, и пошло наше взаимное непонимание, позже и вражда.
Корень народной жизни в умении человека опустить очи долу, приспособиться к месту, где он обитает, к его климату и природе. Никто не обещает ему за это манны небесной, но приноровившись, с голоду он не помрет. Видя, откуда исходит соблазн, власть на Руси давно уже стала думать о природе, искушающей «местного» человека понять и принять ее, именно к ней, а не к власти приладиться, как о своем главном конкуренте и противнике. Чем о более высоком думала власть, тем хуже она относилась к земле. Она словно хотела нам напомнить, что любить здесь нечего, это не родина, не дом, а юдоль страдания, место наказания и ссылки. (В этом причина и полной, по своей природе генетической несовместимости почвенничества с любыми «великими» национальными идеями.) Никогда не забывая об этой опасности, она делала все возможное, чтобы выровнять, упростить, выгладить землю. Сделать ее скучной и безликой и тем заставить человека о ней забыть.