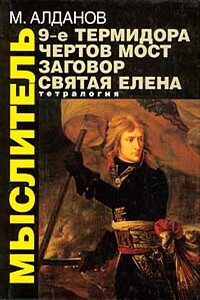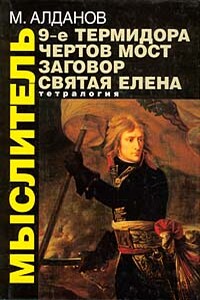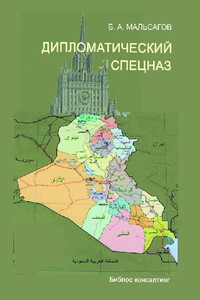«Права человека и империи»: В. А. Маклаков - М. А. Алданов переписка 1929-1957 гг. | страница 31
Однако когда автор этих строк занялся подготовкой публикации вплотную, он горько пожалел о собственном легкомыслии. Среди моих бумаг сохранился листок с панической записью, сделанной в читальном зале Бахметевского архива: «письма Маклакова — 30 тонких папок, 90 % — рукописные, чудовищные». В смысле — написанные рукою Маклакова, его чудовищным почерком. Кроме того, оригиналы его машинописных писем (сохранившиеся в фонде Алданова далеко не полностью) были испещрены рукописными дополнениями, иногда довольно существенными по объему. Но это был не конец истории: в описи фонда Алданова почему-то не значилось, что письма Маклакова имеются не только в 5-й, но и в 6-й коробке! А там обнаружилось еще 11 папок, из которых, правда, в 5 папках находились отпуски писем Алданова, в том числе нескольких отсутствовавших в Гуверовском архиве. «Зато» среди 6 папок писем Маклакова две содержали только фрагменты писем; некоторые фрагменты удалось «склеить» и восстановить тексты полностью, большинство восстановлению не поддаются. Наиболее содержательные фрагменты, тем не менее, включены в настоящую публикацию. Кроме, того, при сплошном просмотре фонда Алданова мною были обнаружены еще несколько рукописных писем Маклакова, находившихся в ранее закрытой части собрания Алданова. Добавлю, что подавляющее большинство рукописных писем не датированы, а конверты не сохранились.
Письма Маклакова Алданову выходили за пределы «обмена мнениями». Для Маклакова это была своеобразная форма дневника, способ как-то зафиксировать свои «труды и дни», от размышлений о следе, который он оставил в истории (самооценка Маклакова невысока, но это как раз случай «уничижения паче гордости»; типично для него сравнение своей жизни с «фейерверком»: если это и так, то фейерверк был более чем ярок и, рискуя впасть в литературщину, замечу, что его искры долетели до наших дней) до рассказа о флирте со случайными знакомыми на курорте. Алданов в последние годы был для него душевно самым близким человеком, и с ним он не стеснялся делиться самыми сокровенными мыслями, так же как бытовыми деталями. Делился — без особой надежды, что корреспондент разберет его текст.
Как бы то ни было, отступать было некуда: надо было как-то расшифровывать маклаковскую «клинопись». Теоретически ничего невозможного в этом не было: помню, как на мои сетования на маклаковский почерк «на заре» моих занятий его биографией в середине 1990-х гг. СВ. Утехин во время одной из наших прогулок по Менло-парку (городок, соседствующий со Стэнфордским университетом), заметил: «Ничего страшного, расшифровали же египетские иероглифы». В принципе верно, но посвятить себя полностью дешифровке этих «новых иероглифов» мешали разного рода обязанности.